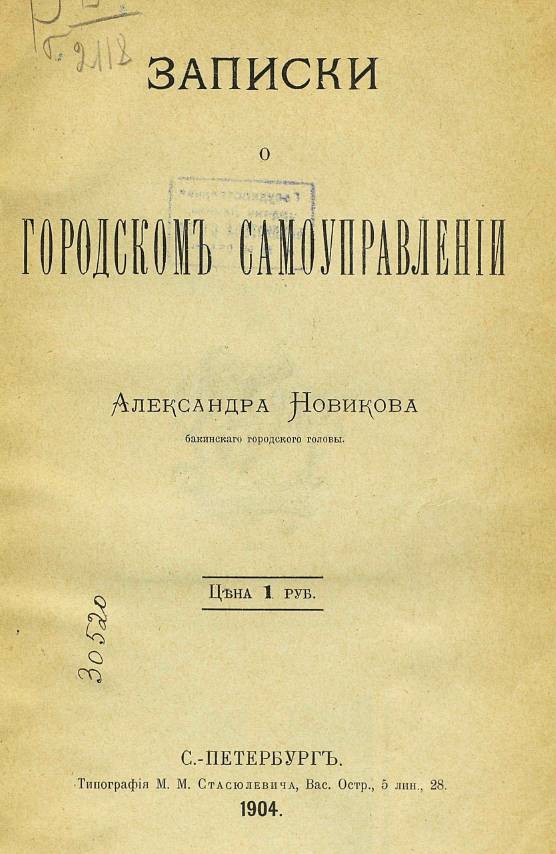
ЗАПИСКИ О ГОРОДСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Александра Новикова
бакинского городского головы
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Типография М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.
1904
Посвящается Марку Андреевичу Натансону
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Пресса и общественная жизнь
II. Работники общественных самоуправлений
III. Местные люди и национальный вопрос
IV. Муниципализация городских предприятий
V. Муниципализация торговых предприятий
VI. Волокита в городских хозяйствах
VII. Дума
VIII. Гласные
IX. Думские заседания
X. Общественная деятельность
XI. Городская управа
XII. Комиссии
XIII. Непонятное совместительство
XIV. Городской голова
XV. Смета
XVI. Оценки
XVII. Статистика
XVIII. Канцелярия
XIX. Бухгалтерия
XX. Обязательные постановления
XXI. Пенсии
Х II. Печатный орган
XXIII. Губернское по городским делам присутствие
XXIV. Низшее народное образование
XXV. Средние учебные заведения
XXVI. Основы общественной медицины
XXVII. Ближайшие задачи общественной медицины
Х XVIII. Санитария
XXIX. Больницы
XXX. Воспитательные дома
XXXI. Ветеринарная часть
XXXII. Благотворительность
XXXIII. Вода и канализация
ХХХIV. Мостовые и пути сообщения
XXXV. Освещение, отопление и телефоны
XXXVI. Строительная часть и квартирный вопрос
XXXVII. Городские земли
XXXVIII. Пожарная часть и страхование
I. Пресса и общественная жизнь
Припоминается мне где-то прочитанный рассказ из китайской жизни: захотелось богдыхану узнать, чем интересуется народ его, и вот поручил он министру своему осведомиться об этом и ему доложить. Приходитеминистр и докладывает, что всюду ругают Лиан-Чу, гусляра, и ругают за пустяки, за фальшивую ноту, за слишком грустный или за слишком веселый выбор пьес... Удивился богдыхан... Лиан-Чу был его любимый гусляр.— Сам переоделся и побывал всюду: в церквах, в общественных собраниях, на базарах. Всюду ругали Лиан-Чу. Богдыхан вернулся и велел его позвать.
— Знаешь ли ты, Лиан-Чу, за что тебя народ ругает?
— А кого же им ругать, о, сын неба! — отвечал Лиан-Чу. — Сановников, учителей, проповедников ругать ты не позволяешь. Вот на меня все и набросились.
Но богдыхан был человек справедливый—он запретил и Лиан-Чу ругать.
Общественное управление, земское и городское, играет у нас роль Лиан-Чу. Многое нельзя обсуждать в газетах по причинам, от прессы не зависящим; частную жизнь обсуждать тоже нельзя: не принято, да и неинтересно. Остается самоуправление: и стоит-то его критиковать, и позволено. И попадает же ему от самых серьёзных академических журналов и газет до юмористических и уличных включительно, все наполнены главным образом обсуждением, критикой, часто восхвалением, ещё чаще руганью земств, дум, управ, а то и отдельных гласных и деятелей самоуправлений. Во Франции про муниципалитеты пишут реже — охотятся за более крупною дичью. И в этой охоте дошли до виртуозности!
Я говорю фигурально. Охотятся-то собственно за читателями, а приманкой служат деятели.
Возьмите какой-нибудь Intransigeant. Рошфор (ведь крупный общественный деятель, крупный писатель и талант) ругается как извозчик, причём ругает самых видных деятелей республики! Да как ругает! клевещет на них, выдумывая и коверкая факты.
И странное дело, пока одних ругает одна партия, а противников их другая партия, всё идёт как следует и ругань и клевета пристаёт к ним, как к стене горох... На то они и деятели, чтобы их ругали. Действие вызывает противодействие, ругань—защиту. Но картина меняется, когда деятель что-нибудь сделает действительно предосудительное—прекращаются похвалы друзей и ругань противников. Деятель сходит со сцены — он недостоин общественного внимания, он умирает для общества. Так было, например, с Клемансо. Его замолчали. То же более или менее замечается и у нас. Наша пресса (чуть-чуть было не перетянул на неё эпитет французской армии—великая молчальница, но забыл, что наша молчальница не велика), наша пресса — говорю я, тоже часто ругается, часто клевещет... К сожалению, мы-то относимся к этому не по-французски и всегда готовы взывать к городовому. Это-то и есть великая ошибка наша. От этого и происходят гонения корреспондентов, избивание редакторов докторами и другие уродливые явления, так часто возмущающие лучшую часть общества. А объясняется всё это очень просто. Мы мало работаем (мало развита общественная деятельность), мало пишем (не умеем, да и не позволяют), и выходит, что деятели и пресса не свыклись между собою и косятся друг на друга. В Англии, — беру с натуры, — писатель отделал деятеля что называется на все корки и с номером в руках летит спозаранку к нему. Тот читает и за чашкой чая приятели обсуждают статью и вызвавшее ею политическое явление. У нас — писатель (хотя бы напрасно) отделал деятеля... и деятель сучит рукава, a то запасается палкой или даже револьвером.
Происходит это у нас от явного непонимания значения прессы. В прессе, как и во всяком человеческом учреждении, работает много всякого люду, хорошего и дурного, а преимущественно, как и везде, среднего. Статьи пишутся соответственно с этим различно: или чтобы провести идею, иногда великую, или чтобы очернить, оклеветать человека, иногда из-за самых низких побуждений, большей же частью из-за построчной платы. Шумят, гремят больше статьи ругательные, клеветнические писателей, хотя бы иногда и продажных: такие статьи больше читаются, чем спокойно написанные, но сравнивать их можно с рюмкой водки. Тянутся к этой рюмке, пьют её с гримасой, а всё-таки пьют, платят за неё деньги и ещё наливают... а наутро кроме головной боли не остаётся ничего.
Оклеветали, мол, человека... и больше ничего. Самому бывает сначала, когда не втянулся, досадно, а потом ничего — чувствуется, что зло вызывает реакцию.
Другое совсем дело — статья объективная, хотя бы и вызванная действительным злом. Чувствуется правда в ней, хотя бы форма её была не ругательная. Правда эта колет глаза обвиняемому. Голос правды звучит иногда и не громко, но запечатлевается в уме и сердце читателя... И в этой правде, остающейся полезной, выдвигающей одних и низвергающей других — всё значение прессы.
Сравните с золотом, с жемчужинами. Сколько песку надо перебрать, перемыть, чтобы получить фунт золота! Сколько раковин на дне морском надо перебрать, чтобы добыть хорошую жемчужинку! Однако золото — предмет вожделения всех людей, а жемчуг —украшение цариц. Преклонимся же перед прессой — носительницей истины, несмотря на толстый иногда слой грязи. Будем помнить, что всё добро, которое разлилось в человечестве последнее столетие, главным образом распространялось через прессу.
В особенности ярко это проявляется в делах суда. Возьмите у нас. Дореформенный суд — без гласности — суд безобразный, несправедливый, бесчеловечный. Суд шестидесятых и семидесятых годов безо всякого ограничения гласности вдруг поднимается на недосягаемую высоту. Уменьшается гласность и, увы! меркнет постольку и ореол суда!
То же и с общественным делом. В самом плохом, неорганизованном общественном учреждении понятие о добре выше, чем там, где гласность преследуется. Попробуйте взять лишний двугривенный, или нарушить право маленького человека, и он запищит... и писк его услышится прежде всего в прессе ... и почувствуется, что писк этот законный... и исправятся делающие зло.
Я могу засвидетельствовать значение прессы, потому что прочувствовал на себе это значение и как писатель, и как объект нападок. Как писателю, мне удавалось добиваться правды путём прессы и притом в борьбе, казавшейся, ох! как неравной, с сильными противниками. В полемиках чувствовал часто удовлетворение в том, что содействовал уяснению правды и, должен сказать, что высшего я наслаждения в жизни не испытывал!
Как объект обсуждения в печати, как общественный деятель, я тоже прошел все фазисы. Сначала я реагировал на малейшее неодобрение, затем, когда одобрения, а тем более порицания стали учащаться, я понял значение тех и других.
Если наступят на здоровую ногу, не больно; наступят на мозоль — больно, и очень. То же и с прессой: обвинят там, где ты не виноват — часто из-за личных мелких побуждений — обвинение, хотя бы талантливое, хотя бы ругательное, стечёт как с гуся вода. Обвинят справедливо, хотя бы вина твоя была невелика — больно, стыдно в этот день в глаза людям смотреть! и ты невольно исправляешься!
А потому, да здравствует пресса! Шире ей дорогу в думах и земствах, судах и департаментах, канцеляриях и управах, комиссиях и совещаниях, везде , где делается общественное дело!
II. Работники общественных самоуправлений
Сорокалетняя практика наших земств и несколько более короткая практика городских самоуправлений выработала различные типы деятелей, которым, с одной стороны, принадлежит теперь руководство в общественных учреждениях, с другой — выпало на долю произвести те многотрудные работы, которые так двинули вперёд умственное и материальное развитие городов и деревень.
Чем вызвана кипучая работа этих деятелей? Особенно ли благоприятным законодательством, сразу наметившим для самоуправлений лучших людей? или обилием этих людей? или особо благоприятными условиями этой работы? Вот в чём надо разобраться.
Надо признаться, что земство имело некоторые преимущества перед городами. Городское самоуправление несколько запоздало своим появлением, тогда как земства открыли свою деятельность в самый благоприятный момент общего подъёма духа, сопровождавшего Великие Реформы. Это было время, когда всякий, на время забыв свои мелкие интересы, нес н а алтарь общественности свой ум, свои знания, свои силы. Когда читаешь земские обзоры тех времён, поражаешься альтруизмом людей, принимавших участие в прениях. Личного «я» для них не существовало. Была польза общая, благо народа, или, как тогда говорили, нужды земли! Среди плеяды деятелей земства, увековечивших имя своё, не могу не помянуть с глубоким благоговением нашего тамбовского Цинциннати, князя Васильчикова, переменившего на звание гласного пост военного министра! Вот как смотрели тогда на служение земле! Вот фундамент, положенный в основание земства!
Благоприятствовал подъёму духа и состав собраний. Рядом с князем Васильчиковым сидели священники, купцы, мещане и выборные крестьяне, при том в таком числе, что дворянство могло только культурным, а не численным превосходством завоевать себе руководящую роль. И надо отдать справедливость тогдашнему дворянству; оно стало во главе земства по праву, по действительно важным услугам, оказанным земле.
Затем идут смутные семидесятые годы — реакция появляется в самом земстве, единодушие исчезает, разгорается борьба земли и личного кармана, альтруизма и эгоизма, светлых сил и тёмных...
Может быть, вероятно даже, побороли бы светлые силы, но тут обстоятельства меняются: умаляется самостоятельность земства; гласные от дворян получают громадный численный перевес над всеми остальными; крестьяне (и то больше по назначению) оставляются в земстве как декорация, начинается бегство из земства прежних работников... Исчезает тип князей Васильчиковых... наоборот, чуть ли не каждый дворянин лелеет мечту попасть в земские начальники...
Теперь еще кое-где земский огонёк, в особенности в губернских собраниях, вспыхивает хоть иногда, иногда же совсем потухает и от внутренних и от внешних причин…
И что же? Умерло земство? Опустилось окончательно? Прекратилась его плодотворная работа?
Нет. Не так быстро, не так энергично делается земское дело, но все-таки делается. Какие бы ни были внешние тормозы и внутренний упадок, не остановилось же дело земской школы, земской медицины. Очевидно, надо закрыть земство или запретить одну из его функций (продовольствие, статистика), чтобы перестало оно реагировать на требования жизни.
Постараюсь разобраться в этом. Почему же действительно дело делается, несмотря на низкий уровень собраний? Кто его делает?
Пусть вызывает эту деятельность жизнь — но где работники? Кто является исполнителем требований жизни?
Земство ли, сама ли жизнь выработали целые типы работников? Таковыми являются земский учитель, земский врач, земский статистик, последнее время земский техник. Начинал такой человек учить, лечить, наблюдать или строить: делался вследствие отсутствия внешних стеснений и вследствие облагораживающего действия земли своим человеком для населения. Попробуйте-ка тронуть с места такого человека! Нельзя! Какое бы ни было земство, хотя бы почти сплошь стоящее против всякого увеличения сметы, должно слушаться голоса населения.
Другие, соседние сёла, волости, районы, видя, что у соседей хорошо, и себе начинают требовать людей. И им отказать нельзя. Таким образом, движется дело даже против воли самых земцев, часто сговаривающихся перед заседанием не уступить и удивляющихся по выходе из залы, как вздулась проклятая смета!
Другими словами: жизнь в искусственные, тем более фальшивые, рамки не всунешь. Это, как рождение ребенка. Не помогайте родам — а ребёнок все-таки родится, поражая силой своей. Слышал я даже от деревенских бабок, что хороший, здоровый ребёнок родится труднее , чем слабый.
Повторяю: в первые времена земства дело делали земцы, конечно, не непосредственно, а с помощью людей, которых привлекли к земле. Затем картина изменилась. Явились препоны внешние и внутренние. Но та же работа стала производиться не самими земцами, иногда даже против их воли, a посторонними, специалистами, сроднившимися с землей, пришедшимися ей по сердцу и полюбившими её. Нарождался понемногу, развился и сроднился с населением земли третий элемент.
И сроднился он настолько, что когда делаются опыты его оторвать от земли, то это производит впечатление ампутации.
И в другой форме работники должны возродиться! Потому что жизни не остановить, как не остановить без смерти родов женщины!
Перейду к городской жизни.
Городское самоуправление родилось позже земского. Время было уже менее благоприятно. Если еще не началась, то в воздухе уж чувствовалась реакция. Естественно, что при менее благоприятных условиях развилась менее совершенная организация.
Есть земец, нет соответствующего термина для городского деятеля. Разница десяти лет во времени разработки проектов земского и городского самоуправлений отразилась на качестве самих проектов. К работе в земствах было приглашено на первых порах всё, что имело общение с деревней: богатое дворянство, духовенство, купечество и бедное крестьянство. Притом, земство было совсем бессословно. Уж впоследствии всё это изменилось, когда фундамент был заложен.
В городе сразу обратились к двум сословиям (да простят мне эти термины): домовладельцам и крупным торговым людям. Всех остальных забыли или преднамеренно оставили в стороне; квартирантов даже богатых, не говоря уже о бесчисленных обывателях, голосом которых даже совсем пренебрегли.
Что получилось? Получилась политика городских центров в ущерб окраинам, отсталость городов (даже против деревень) в таких делах, как народное образование, отсутствие таких работников, каких дало земство...
Итак, первая разница в жизни городских и земских самоуправлений та, что во втором был заложен более прочный фундамент; а без фундамента не выстроилось в городах то здание, которое оказалось возможным в деревне.
Другими словами, в городах не оказалось тех бескорыстных работников, которых мы видели в земстве.
Но то, что не было посеяно с самого начала, не могло и родиться само собой после, когда к тому же изменились внешние условия.
Земские гласные, несмотря на изменившиеся условия, всё-таки кое-как реагировали на желания жителей деревни, городские, более далёкие от обывателя и по состоянию и по кругозору, не реагировали, и если что и перепадало населению, то скорее из чувства альтруизма, чем от общности и обоюдности интересов. A на этой почве где было народиться третьему элементу? Как нет слова, соответствующего земцу, так нет городского учителя, врача, архитектора в том смысле, как мы понимаем земского учителя, врача, статистика.
Наконец, прибавим к этому внутренние свойства самой среды. Деревня чище города не только воздухом, водой, почвой, но нравственной фигурой обывателя, более близкого к природе, чем городской. Это последняя, третья причина, почему не развился третий элемент; почва для него была менее благодарна.
Условия продолжаются для городов такие же тяжёлые, как и для земств. Поэтому и теперь еще городам предстоит работа самообновления (я говорю про состав работников), мне кажется, что для этого процесса им прежде всего следует взглянуть на земство.
Чем оно сильно? ведь не земскими собраниями, работающими от 3 до 7 дней в году! Не малочисленными, часто неудовлетворительными членами земских управ. Оно сильно многочисленными самоотверженными тружениками — третьим элементом.
Очевидно, в нём надо искать спасенье городов. Но, ведь есть же у нас и городские врачи, и городские учителя, и городские статистики. Есть, но разница между ними и земскими очевидна.
Слыхали ли вы про съезды городских учителей? или городских врачей? Коли слыхали, то очень редко. А про то, чтобы все врачи, или статистики, или все служащие города подали протест или вышли в отставку вследствие несправедливости начальства или вследствие тормозов, встретившихся им в их работе? может быть и слышали, но очень уже редко.
Между тем, в земстве это — явления весьма обыкновенные.
Не следует ли из этого, что земский работник заботится более о деле, чем городской?
Очевидно, надо ободрить городского работника, надо поднять его этику, поставив его в лучшие условия. Чтобы решить, как это сделать, обратимся опять к земству.
Где там решаются дела медицинские? На медико-санитарных съездах, куда приглашаются и члены управы, и гласные, и все врачи, служащие в земстве. Были попытки приглашать фельдшеров. И хорошо, коли приглашать и фельдшеров и акушерок. В одном московском земстве решили на съездах врачей каждые три года баллотировать всех. Плох — уходи из нашей среды. Понятно, как при таких условиях улучшается качество работы. Поневоле и средний человек начинает увлекаться делом, а не двадцатым числом или частной практикой.
То же можно сказать и про съезды учителей. Спросите учительниц, побывавших на таких съездах! С каким восторгом он говорят про руководительство на съездах лиц, составивших себе этим громкие имена в России? Вот как поднимается этика среды!
А сплоченность статистиков? разве это не признак тонкого понимания собственного достоинства? Достоинства человека, не имеющего с семьей гроша за душой, кроме сторублёвого жалованья?
А есть это у нас в городах?
А коли нет, так не пора ли подумать о том, чтобы было?
Поднимите самосознание служащих! Устраивайте съезды, беседы! Будьте требовательны, когда дело идёт о работе и благополучии общего дела, но не требуйте чинопочитания, по-
клонов. Устройте в каждой корпорации товарищеский суд. Воздействуйте, если сумеете, на служащих этим путём лучше, чем непосредственно. И вы поднимете этически уровень целой среды. Вот путь к спасению, и думаю — другого нет.
III. Местные люди и национальный вопрос
Пишу эту статью под влиянием случая из моей практики бакинского городского головы. Я никак не думал, что кто-нибудь когда-либо будет иметь возможность упрекнуть меня в националистических тенденциях. Когда я шёл в городские головы города Баку, я думал, что выбор бакинских гласных остановился именно на мне, а не на ком-либо ином именно потому, что я достаточно доказал свою полную невосприимчивость ко всем, к сожалению так распространённым ныне, националистическим идеям.
Так я и говорил думе в своей вступительной речи, a так как я ни во лжи, ни в торговле своими убеждениями упрёков обыкновенно не заслуживал, то надеялся, что этот вопрос для меня окончательно решён и что на этой почве мне никаких конфликтов опасаться нечего.
Между тем, именно на этом проклятом вопросе я и заслужил упрёк. Я говорю проклятом, потому что национализм, всегда соединённый с дурными чувствами, а следовательно и с дурными делами по отношению к чужим народностям, я считаю тонким видом Каинова греха, т. е. братоубийства.
Положим, публично меня националистом не называли, прикрывая это обвинением в том, что я избегаю местных людей. Но мне доподлинно известно, что за глаза некоторые из моих противников старались дискредитировать меня в общественном мнении именно на этой почве.
В записках общего содержания я позволяю себе говорить pro domo sua единственно потому, что этот вопрос имеет слишком уже общественный характер, указание же на частный пример, в данном случае бывший со мной, может лишь уяснить дело.
Повторяю: в национализме собственно меня открыто никто не обвинял, но говорили о моем предпочтении людей со стороны против местных. Пусть будет так. Пусть заботились не о национальности назначаемых, а лишь о месте их жительства или рождения. Из этого вытекает, что кроме весьма любопытного национального вопроса есть ещё другой вопрос о преимущественном праве местных людей. Мне же кажется, что эти вопросы сильно между собою связаны везде, а в Баку в особенности.
Примеров того, как приглашают выписных людей — очень много. Приведу некоторые из них.
1) В Россию некогда выписали Рюрика, Синеуса и Трувора. При Петре Великом тоже были выписаны разные иностранцы.
2) В Турцию, Китай, Корею постоянно выписываются в армию и в администрацию европейские ученые и инструкторы.
3) На постройку сибирской дороги были выписаны итальянские рабочие.
4) Петр III, большой любитель немцев, не только выписывал их из-за границы, но все лучшие и наиболее видные места предоставлял им.
Хорошо ли или дурно делали все эти народы и люди, выписывая к себе иностранцев? Думаю, что дать общий ответ всякий затруднится. Как никто не бросит камня в Петра I за выписку Лефорта, так никто не одобрит выписку ни на что ненужных немцев Петром III. У Петра I была одна цель: благо родины. Не находя у себя людей достаточно ученых, он выписывал их оттуда, где они были.
У Петра III этой цели не было. Наоборот: он лично, любя немцев, старался их пристроить во вред русским.
Таким же образом понятна выписка европейских учёных в малокультурные страны и итальянских рабочих на сибирскую дорогу и несимпатична вьшиска в Петербург разных иностранных парикмахеров, метрдотелей и горничных из чувства преклонения перед модой.
Думаю, что эти примеры можно свести к одному правилу: выписка иностранцев хороша и полезна, если имеет целью исключительно благо народа, куда они выписываются, и нехороша, когда целью является благо призываемых за счёт народа, их принимающего .
Совершенно то же мы имеем в сфере частной жизни. Думаю, что если я, в качестве помещика, буду рабочих в Тамбовскую губернию выписывать из Китая, то меня русские по праву могут обвинять в пренебрежении местными интересами.
Так ж тамбовцы меня обвинят, если я буду предпочитать рязанца, а жители моего села, если я буду давать предпочтение жителям другого, более отдалённого.
Естественно местным людям, в данном примере тамбовцам, иметь, если хотите, известное нравственное право на преимущество пред рязанцами, а тем более китайцами.
Да иначе и быть не может. С соседом меня связывает большая общность привычек, чем с жителем, удалённым от меня на двадцать вёрст. Эта связь еще тоньше у меня с рязанцем и еще меньше с моим еще более дальним братом — китайцем. Затем у моего соседа ещё преимущество. Живущему рядом, ему легче прийти ко мне на работу, чем рязанцу и китайцу, а поэтому его работа дешевле.
Но всё это относится лишь к тому случаю, если работа и тех и других одинакова. Тамбовский землепашец, еле умеющий держать топор в руках, не может на меня обижаться, если я из Рязани выпишу плотника, из Нижнего каменщика, из Китая мастеров для выделывания чесучи.
Наконец, если работа немца даже в поле гораздо лучше, чем работа тамбовцев, то пусть расчётливый хозяин скажет им: «улучшите работу и сделайте, чтобы мне выгодно было вас брать или по крайней мере безубыточно, a то смотрите—я возьму немцев». Это будет не великодушно, но в наш век расчёта это будет считаться справедливым.
Формулируя всё сказанное, получим такое правило: местные люди имеют преимущество перед дальними, эти последние перед ещё более дальними и так далее, при равных условиях работы, цены, производительности, приносимой пользы.
Если же цена ниже и приспособленность людей дальних лучше, то право работодателя их предпочесть местным людям. Конечно, чувство близости, общности привычек (это и есть истинный патриотизм, в отличи от национализма) всегда склоняет в данном случае весы в пользу ближайших соседей. Но теоретически правило моё верно.
Теперь перейду к общественному делу, стоящему между государственным и частным.
По своим свойствам оно ближе к государственному, чем к частному, и вот почему: частный человек может отступать от теории сколько хочет. Фабрикант, заводчик, помещик может, любя своих рабочих, сделать им ту или другую поблажку, простить то или другое упущение. Это его право, потому что в этом случае он приносит ущерб одному себе.
Я скажу больше: это его человеческая обязанность, если он не на словах только проповедует любовь к ближнему. На то он частный человек.
Другое дело—общественный деятель, он не может ни дарить, ни прощать, ни делать снисхождений, ни кому-либо мирволить и покровительствовать, кроме как наиболее достойному.
Цель его службы не его личная польза, а польза обывателей. Её он всегда должен иметь перед глазами, и ничто другое.
Деятельность помещика эгоистическая и дает полный простор альтруистическим его проявлением по отношению к служащим и рабочим. Деятельность общественного человека должна быть всецело альтруистическая. Своего « я » для него быть не должно. Ясно, что тут не может быть места никакому другому альтруизму низшего порядка. Чем выше служение, тем менее даёт оно простора личному чувству. Этим общественная служба походит на государственную. Правители и их помощники, служа целым народам, ещё более связаны в своих действиях и в потворстве своим чувствам. Чем выше с лужение, тем меньше места компромиссам.
Вернёмся к своему вопросу. Имеют ли преимущество местные жители перед другими для поступления на службу в местном общественном учреждении. Ответ простой: при всех прочих равных условиях — да, имеют. И тот общественный деятель, который бы преднамеренно стал выписывать иногородних по личным убеждениям, давая им предпочтение перед местными, думаю, поступил бы неправильно.
Но это только ceteris paribus, т. е. если все остальные условия совершенно одинаковы.
А какие это условия? Требования от служащего общественному самоуправлению очень высоки. Не надо думать, что особые свойства общественности должны быть присущи лишь высшим заправилам самоуправления. Обычно гласные это приписывают только себе. Мы, мол, служим бескорыстно, но мы отцы города, мы заботимся о благе общественном, не то, что все эти наёмные... это что! Разве их можно сравнить с отцами города? За ними смотри, да смотри...
Это глубокое заблуждение, даже если оно бессознательно, ведёт к большому злу. Всех наёмных стараются нанять подешевле (спрос и предложение). Всё равно, мол, они наёмные!..
Я думаю, что тут-то и кроется главная причина неудовлетворительности наших городских хозяйств. Наёмные-то эти люди должны быть столь же пропитаны духом общественности, как должны бы и господа гласные. Только при высоком уровне общественности пойдёт дело хорошо, причем эта общественность отнюдь не должна быть уделом лишь гласных, и должна пропитать всех приближающихся к «общественному пирогу». (Какое скверное выражение!). Общественный пирог должен быть для обывателей, а не для гласного или для служащего.
Чем выше местный уровень общественной этики, тем лучше. Иная местность может быть поставщиком общественных деятелей, как Рязань ставит плотников во все губернии России... Это вовсе не гипербола и не шутка. Общественный деятель воспитывается, учится воспринимать общественную этику, как рязанец учится плотничному ремеслу. Оттого у нас так плохо идёт дело, что общественность не в чести, мало думают об этике в служении обществу. И людей мало, и надо их искать, а искать их нелегко. Приходится обращаться в земства, единственный бывший прежде рассадник таких людей. Я говорю бывший прежде, потому что теперь и в земствах не живется людям идейным, с общественной жилкой.
И не знаешь, где их и искать. А без них нельзя. Только ими можешь ещё кое-что сделать доброго на общественной ниве. И вот ищешь, справляешься.
Это ли пренебрежение к местным людям и вытягивание своих? Не думаю.
Иногда и на местном горизонте поднимаются такие звёзды. Да ей рад бываешь, этой звёздочке, несказанно, и рад бываешь её положить в свою городскую сокровищницу! Да кто же виноват, что их мало? Да и везде их мало, не в одном Баку, и везде их нужно выписывать со всех концов России самых дальних... А в Баку они особенно редки вследствие специфически американских плутократических особенностей этого города.
В начале статьи я сказал два слова о национализме. Не потому только я об этом заговорил, что меня в нём упрекали вопреки самой элементарной справедливости, а потому, что и в вопросе о местных людях некоторую роль надо, по-моему, отдать и вопросу национальному.
Я говорил: при всех равных условиях надо отдать преимущество местным людям.
Сделаю для Кавказа маленькое изменение. Если везде должно быть дано преимущество местным только при равных условиях, то на Кавказе я готов сделать маленькое послабление в пользу местных людей, допустив местного человека с баллом пять с минусом против неместного с круглой пятёркой. Причина тому вот какая.
Тамбовец, рязанец, когда он культурен, имеет возможность пользоваться плодами своей культуры без ограничения.
Ограничение ж это кое-где, к сожалению, все больше и больше становится строгим. Так тамбовец может сыну дать высшее образование в Москве, в среде, близкой к той, с которой он свыкся, в том же климате. Кавказцу приходится посылать юношу за тридевять земель, жить в совсем непривычном для него климате, в совсем несвойственных ему условиях. Тамбовец может, окончив своё образование, поступить на государственную службу по всем отраслям и повсеместно. Ищет он тёплого климата — он едет на Кавказ, а в громадном большинстве случаев он ищет местечка поближе к месту родины.
Кавказец с дипломом высшего учебного заведения, если хочет идти на государственную службу, должен прежде всего навсегда проститься со своей родиной, бросить семью, имение, язык, привычки. Многие, гонимые нуждой, на это идут, другие предпочитают отказаться от своих прав и не идут на службу.
Не естественно ли принять это во внимание и сделать им хоть незначительную поблажку в поступлении на общественную службу?
Я думаю, что это справедливо, конечно, при условии, чтобы эти поблажки не вредили обывателям и т. о. общему делу.
Всё это я понимаю и сознаю не меньше моих оппонентов, но ведь допустима лишь маленькая поблажка местным людям.
А разве маленькой поблажки требовали, когда у нас сыр-бор загорелся? Нет, не маленькой поблажки, а полного пожертвования интересов, общих местным людям. С этим, воля ваша, согласиться нельзя.
Я сейчас говорил о более мне знакомом Кавказе, но относиться это может и ко всяким другим окраинам, где может у нас быть национальное притеснение.
К сожалению, совсем нельзя это правило распространить и на миллионы евреев. Закон, всё стесняя их человеческие права, в городовом положении дошёл до геркулесовых столпов. Ни избирателем, ни гласным, ни видным служащим по найму еврей быть не может.
В избиратели и гласные его не пускает закон, в служащие, как, например, в доктора, архитекторы, его не утвердит начальство. И это и в черте и вне черты осёдлости, Скажут, что я забыл тех гласных евреев, которые сидят в думах по назначению! Нет, не забыл... Но лучше бы и их помарали. Было бы откровеннее...
IV. Муниципализация городских предприятий
У нас везде вечно кричат: денег нет. Какие потребности бы ни ждали удовлетворения, всегда возможно, что роковое — денег нет, затормозит дело. Чудовищное состояние маленьких и средних городов, равно как и окраин больших, без мостовых, без освещения, без путей сообщения, без канализации, без воды, с невежественным суеверным населением, живущим в грязи, с ужасающим процентом смертности — всё находит объяснение и извинение в вечном: денег нет.
Как же за границей? Почему города мостят и освещают не только все свои улицы, но и дороги, к ним ведущие? Почему зависть так и схватит вас, когда вы сравниваете иностранный город и его культуру с нашими? Почему у них деньги есть, a у нас вечно и нигде нет?
Горе наше, мне кажется, в том, что нам до всего надо дойти своим умом, своим опытом. Мы привыкли к мысли, что на столько-то лет отстали от Европы и считаем чуть не доблестью, что держим эту дистанцию, отнюдь её не уменьшая. А когда нам показывают на Запад, мы негодуем: что? Европа? А дистанция? Куда же денется наша самобытность,
если мы не соблюдём дистанцию? Если будем жить чужой головой, не переделавши всех тех ошибок, всех тех глупостей, какие переделал Запад, не имея еще западнее более культурного соседа?
Это одна из причин. Главная. Мы миримся с тем, что мы на рубеже Европы и Азии, так же как Азия мирится, что она Азия, а не Европа. И если разница между Европой и Азией заключается именно в культуре, между прочим и во внешней — как больницы, освещение, вода и прочее, то естественно, что мы миримся с отсутствием этой культуры. Не дай Бог с внешней культурой к нам перелезет и внутренняя! Тогда совсем беда! Так мы думаем в Баку, так мы думаем и в Москве!
Кром этой причины, скажем нравственной, если не безнравственной, есть еще другая, хранящаяся в нашем характере. Русский человек, имеющий несколько тысяч или десятков тысяч рублей, держит свой капитал в четырёхпроцентной ренте, и, боясь лишиться всего капитала, так как единственно верным помещением он считает четырёхпроцентную ренту, теряет этот же капитал, проживая его по частям, так как ему не хватает на прожитие процентов его ренты.
И в том, что мы покупаем ренту, мы видим уже громадный прогресс, ибо несколько десятков лет назад наши предки держали этот капитал в кубышках, так же, как в кубышках держат его и доселе наши соседи, живущие в нескольких стах верстах на восток.
Совершенно так же ведут своё хозяйство наши города. Если город у нас задолжал рублей 20 или 30 на жителя, то он считает себя неоплатным должником. При этом он не смотрит, что он на эти деньги сделал, и что ему это приобретение даёт выгоды. Нет, он знает, что у его города два миллиона долгу и ужасается! И когда нужно еще занять тысяч сто на крайнюю нужду или на выгодное предприятие — поднимается крик: Как? Занимать еще? А наши два миллиона долга?
А за границей смотрят не на сумму долга, а на разницу между имуществом и долгом, между процентом получаемым и процентом платимым.
И если предвидится предприятие, дающее 4,5 % при возможности занять за 4 проц., то какой бы ни был долг, хотя бы в 200 — 300 рублей на жителя, не сомневаясь, заключают новый заём. Дело коммерческое, дело расчёта, ведётся по-коммерчески. A у нас всегда боятся! Ну, как дело не пойдёт, ну, как город расти перестанет! И это теперь, когда всё бежит в город, когда деревня изнывает от перепроизводства людей, которых неудержимо дарит городам!
Это отсутствие предприимчивости, имеющее, конечно, глубокие исторические причины, — это одна из главных причин обеднения России. Оттого мы кричим, что нас давит то еврей, то немец, то бельгийская компания, то американское акционерное общество. И это всё правда! Еврей, немец, бельгиец, американец у вас хозяйничает, обогащается, а мы?.. мы избираем один из двух выходов: или бить еврея, что уже совсем гадко... или совсем не допускать иностранцев, хотя мы и лишимся тех или других благ технической культуры.
Почему бы самим не взяться за дело? не поучиться и не побить еврея и иностранца... не палкой, а знанием дела, смелостью предприятия, широтою полета? Такой век подходит, что этим оружием придётся бороться человеку с человеком, народу с народом, городу с городом.
Все это мне приходится говорить по поводу городского хозяйства. Возьмём конки и трамваи. Когда пример заграницы нам уже показал, как феноменально скоро развивается езда по конкам, мы все ещё сомневались в плодотворности этого нововведения. Наши думы только разговаривали об этом; предприниматель русский не находился; явились иностранцы. И все мы с ними начали вести дело, счастливые, что ничего не приходится тратить, а что тратят другие.
Мы получили конки, но зато оказались связанными этими конками по рукам и по ногам. Ни развивать сеть, как мы хотели, ни улучшать конку, ни перейти на другую тягу, ни выкупить предприятие мы не могли. Сколько миллионов ушло иностранцам с этими конками. Я отнюдь не к тому веду речь, чтобы сожалеть о том, что мы сдали конку иностранцам. Я радуюсь этому, потому что убеждён, что не будь иностранцев и до сих пор в большинстве случаев не было бы и конок.
И сколько нажили эти иностранцы на конках, показывает и постоянно растущее передвижение и высокие цены выкупа.
То же самое было и за границей. Там тоже муниципалитеты сдали конки и омнибусы частным обществам, наживающим громадные богатства, но тогда закон увеличения передвижения был еще неизвестен. Мы начали делать ошибку, когда другие в ней уже раскаивались. Мы могли, мы должны были её избежать — мы её не избежали и потеряли городские миллионы.
Теперь мы вступаем во второй фазис этого дела. Электрическая тяга появилась и стремится занять место лошадей. Совпадает это с освобождением многих городов от их договоров с акционерными обществами, И теперь вовсю снова разгорается борьба между трамваем городским и бельгийским.
Некоторые города вынесли борьбу и обзаводятся муниципальными трамваями, другие снова связались с бельгийскими обществами, третьи еще медлят, борются.
Если первая ошибка может иметь оправдание в незнании, то вторая уж будет непростительна. Тут уж мы имеем опыт не Европы, а свой собственный. Неужели нам одной ошибки, десятки лет стоившей громадных денег, мало?
Ведь трамваи — источник больших доходов для города, доходов несомненных и постепенно растущих. Не взять дело в свои руки, значит не подобрать, что теперь перед нами лежит, А мы кричим: «денег нет!» Да вот они, деньги!
А вода? Сколько теряют города, не заботясь или заботясь недостаточно о водопроводах? Где вода ни проведена, она даёт благоденствие городу и вместе с тем служит для города большим источником дохода. А между тем, много ли городов с водой хорошей и в достаточном количестве.
Мостовая? Неужели не понятно для всех, что выгодно мостить все улицы города. Получается очень странная аномалия. Крик общий стоит, что у нашей деревни дорог нет. Требуют улучшения дорог. Но неужели можно думать о дорогах деревенских, по которым на десятки вёрст не встретишь человеческого жилья, когда в наших городах немощёными остаются улицы и базары?
Если вымостить окраинную улицу, сразу поднимается цена земли, домов и квартир. Улица начинает обстраиваться. Поднимается оценка домов, увеличивается оценочный сбор. Одним словом, расход возвращается в городскую кассу и прямо и косвенно.
Конечно, у нас затруднён кредит для городов. Часто разрешение займа или предприятия зависит от личных отношений. Знаем мы и ужасный случай, где муниципализация конки не состоялась лишь по непонятному запрещению администрации. Кое-где эти внешние тормозы могут служить для городов смягчающими обстоятельствами, но отнюдь не всегда и везде оправданием. Большей частью, надо признаться, это вина самого самоуправления, или, скорее, несоответствие нашего так называемого самоуправления (по-моему, правильнее новый термин «управления») к потребностям обывателя.
Даже косностью, даже невежественностью нельзя всегда объяснить отсталость наших городов. Наши думы как будто знать не хотят пользы обывателя. Зачем вода, когда мы пьём сельтерскую или содовую воду? Зачем мостовые на окраинах, когда мы живём в центре?
Еще неизвестно, где лучше живётся богатым: среди нищих или среди достаточных?
Но вечно так идти дело не может. Перед очевидностью должен будет сложить оружие даже личный интерес. И если нельзя по внешним, внутренним или финансовым причинам немедленно приступить к той масс благодетельных предприятий, которые призваны одновременно и удовлетворить различным потребностям обывателя и обогатить городскую кассу, то, по крайней мере, обязанность городов не закабалять себя новыми разорительными контрактами и не отдавать на долгие сроки свои доходные статьи на эксплуатацию частным лицам.
В этом отношении, впрочем, уже проявилось сознание у общества. Число таких концессий, по-видимому, уменьшается и даже в наших думах под напором общественного мнения всё больше и больше приверженцев имеют хозяйственная постановка и эксплуатация регалий.
Но за последнее время за границей же нам подаётся новый пример более широкой постановки городского хозяйства: то там, то сям мы видим новые предприятия, полукоммерческие, а то и чисто коммерческие, которые берут на себя города к взаимной пользе обывателя и городского бюджета. Принятая общественным мнением сначала не особенно благосклонно муниципализация разных торговых предприятий теперь приобретает всё больше и больше сторонников. Попытки к тому же, хотя и слабые, мы видим и у нас в России. Правда, их можно по пальцам перечесть, но дорого начало, дорого ознакомление публики с новыми приёмами.
V. Муниципализация торговых предприятий
Лет двадцать-тридцать тому назад, когда в земствах или думах поднимался кем-нибудь вопрос о выгодном для города или уезда предприятии, сопряжённом с коммерческим расчётом и обычно принадлежащем к области торгового мира, сейчас поднимался кто-либо из опытных гласных с заявлением, что такое, мол, предприятие, как коммерческое, выходит из сферы деятельности земства или думы. Довод этот магически действовал на собрание и предложение проваливалось изредка робкое заявление какого-нибудь новичка: «Да почему же всякое коммерческое дело выходит из нашей компетенции?» — оставалось без ответа. Дело, ведь, само по себе казалось достаточно ясным.
Это было время и концессий и крупных подрядов. Также казалось неопровержимой истиной, что крупное финансовое предприятие лучше будет и задумано, и профинансировано, и проведено в жизнь и эксплуатировано концессионером-финансистом или акционерным обществом, нежели управой. Со временем поняли, что хотя акционерное общество и имеет некоторые преимущества перед муниципалитетом по большей подвижности и самостоятельности её исполнительных органов, но это преимущество отнюдь не вознаграждает за те громадные барыши, которые из кармана города или его обитателей переходят к акционерам. Что время концессии для городов если не прошло, то несомненно пройдёт, и пройдет вскоре, — это уже есть научная истина.
Точно таким же образом понемногу минует время крупных подрядов. Домов на выстройку уже не сдают, а строят хозяйственным образом через мелких подрядчиков-специалистов. Мало-по-малу муниципализуются городские предприятия.
Но городам, по-видимому, на этом не суждено остановиться. Последнее десятилетие за границей по этому же пути сделаны новые, крупные и весьма плодотворные шаги. Я говорю про муниципализацию некоторых торговых предприятий.
Но не только за границей, и у нас уже никому не кажется диким, если заговорят про городские мясные или хлебные лавки. Повторяется, конечно, фраза, что это не городское дело, но не так уже убеждённо, как прежде. Мнение это горячо оспаривается многими более предприимчивыми гласными.
Главным поводом для торговли, конечно, сначала являлось не желание получить барыши, а другие цели, достижение которых для земства или для городов считалось целесообразным.
Земства, например, убедились, что тормозом для развития сельского хозяйства явилась недостаточность машин и орудий для крестьян. — Появились склады их, чуть не при всех земствах. Склады работают с каждым годом всё лучше, и про убытки не слыхать. Заметило земство, что косы продаются крестьянам косниками втридорога и нехорошие. Стали в рассрочку торговать косами — и дело пошло. Горят деревни русские — и кое-где продаётся кровельное железо. Захотели улучшить крестьянское чтение — появилась земская книжная торговля на местах и в разнос.
В городах торговые предприятия вызваны преимущественно необыкновенным ростом фальсификации и требованиями санитарии. Главным образом эти нововведения коснулись торговли пищевыми продуктами. Одесские пекарни, тифлисские и батумские мясные лавки иногда функционируют и не совсем удовлетворительно, но, в общем, польза их общепризнана.
Стоит только убедиться, что борьба с недобросовестной торговлей (как и всяким злом) исключительно мерами карательными ни к чему не ведёт, и вы непременно придёте к необходимости выводить это зло другими путями. Делают хлебники слишком лёгкий и не довольно чистый хлеб — откройте свои пекарни, отпускающие хлеб настоящего веса и безусловно чистого приготовления и вы этим самым убьёте недобросовестную торговлю частных лиц. Покупатели сами к вам пойдут. Не лучше ли это обязательных постановлений, протоколов и кутузок? Как уже стараются бороться с мясоторговцами и таксами и целыми организациями торговых смотрителей. И что же? То там, то сям приходят к заключению, что это дело надо взять в руки самому городу. А ведь это дело громадное: тут и стада, и пастбища, и собственная мясоторговля. Это ли не торговое предприятие? А справляется с ним город?..
Другая отрасль, которая кое-где прививается, это — бумажно-книжная торговля.
Если вдуматься, сколько переплачивает население, и притом население самое симпатичное — учащиеся — на бумаге, карандашах, тетрадках и учебниках, то необходимость открытия этой торговли самими городскими управами сделается очевидной, не говоря уже о возможности для грамотного читателя получить хорошую книгу взамен воинственно-суеверных лубочных изданий.
Сама жизнь наталкивает на новые предприятия. Городские больницы, приюты и прочие заведения нуждаются в стирке, вызывают постройку механических прачечных.
Естественно сделать их большими, потому что чем больше прачечная, тем дешевле обходится в ней стирка белья. Само собой напрашивается мысль использовать вполне такое учреждение не только для городского белья, но и для частного. И вот является за границей муниципальная стирка белья для бедных.
Приходит человек в одной грязной рубашке и выходит через полчаса в ней же чисто вымытой, высушенной, выглаженной. Прачечная... тут... вода... естественно напрашивается мысль здесь же устроить и баню. Снял бедняк бельё стирать, а сам пока вымоется. Все чисто, хорошо, гигиенично. Главная цель — не выгода, а польза бедняка-обывателя.
Вот правильно понятая задача городского управления. A барыши сами собой идут. За прачечной и баней естественно устроить и муниципальные купальни, и дешёвые столовые, и т. д. Обеды, которые развозятся в Англии и питают всю бедноту, несмотря на свою дешевизну, дают хороший барыш. Потребительные общества, дошедшие в Швейцарии, Италии, Англии до столь блестящего состояния, занимаются всеми возможными отраслями торговли. И дела идут хорошо на пользу бедноты. В Швейцарии мы видели общины, все до одного жители которых принадлежат к потребительным обществам и где вся торговля сосредоточилась в их магазинах. Тут до муниципальной торговли всем — уже один шаг. Но и этого мало... В Швейцарии же есть потребительное общество, устроившее бумажную фабрику, и если все жители города состоят членами этого общества, то нельзя ли назвать ту фабрику муниципальной? Но и за границей такое явление одиночное и распространение его только разве в будущем может мерещиться самым смелым фанатикам расширения коммунального хозяйства.
Как виноторговцы не могут простить винной монополии министерству финансов, так естественно торговому люду быть против муниципальной торговли. И ожидать от них содействия в этом деле всё равно, что заставить их самим себе копать могилы. Естественно, что хлебники будут помогать мясникам в их борьбе с городом, естественно, что и мясники будут против хлебопекарен. Тем не менее сознание пользы муниципальных предприятий всё более и более распространяется в культурных слоях населения и трудно предположить, чтобы борьба с ними была особенно продолжительна и плодотворна.
Надо признаться, что в борьбе со всем, что пахнет муниципализацией, пускаются в ход всевозможные средства, даже не совсем красивые. Пускают громкое слово «социализм», хотя ничего социалистического нет в содержимой городом мясной лавке. И, увы! до сих пор действуют на наше воображение громкие слова, хотя бы не соединённые с мыслью. «Металл», «жупел» многих пугают, как пугает иных слово «социализм», хотя бы и без толку употреблённое. Социализм предполагает насилие, хотя бы закона. Можно ли назвать социализмом положение, основанное даже не на законе, a на свободной конкуренции? Очевидно, нет; и пугаться этим, ложно употребляемым словом так же неразумно, как недобросовестно напрасно им пугать. Между тем как часто это делают некоторые беззастенчивые органы нашей печати!
Основанием городской торговли должна быть свободная конкуренция с частными предприятиями. Право же монопольное города могут себе присваивать только в случаях безусловной доказанной полезности именно их предприятия в сравнении с другими. Так, например, вода. Очевидно — город имеет право запретить брать колодезную воду, вредную для здоровья, и заставить пользоваться водой из городского водопровода.
Только в таких исключительных предприятиях, притом по своему существу или громоздкости не подлежащих конкуренции, обязательное постановление может заставить обывателя обратиться к городскому предприятию, чисто же торговое дело нужно вести на общекоммерческих основаниях. Зато же и прочно и полезно будет дело в случае победы! Главный тормоз, выставляемый противниками муниципализации, тот, что всякое дело коммерческое гораздо лучше ведётся частным лицом или обществом, чем городом. Кроме общих причин, затрудняющих и замедляющих ход городских предприятий (а всякому понятно насколько в торговом деле — где главное быстрота — вредят всякие замедления) города, в особенности наши, страдают от недостатка людей. Многое бы сделали, да людей нет. И вот этих людей снова ищут не там, где следует, и вместо того, чтобы привлекать к работе людей интеллигентных, их избегают не только по принуждению, но и добровольно, и на эти дела, как и на другие, берут людей по протекции того или другого влиятельного лица. Недаром вошло во всеобщее употребление выражение, которого я терпеть не могу, но которое приходится употребить: «городской пирог» .
В кусочек городского пирога, к которому надо подойти или подвести приятеля, обращается слишком часто даже наилучше задуманное предприятие. А это будет, пока городское самоуправление будет в руках одного избранного класса населения, и притом избранного не по тем признакам, по которым бы следовало!..
В заключение не могу не указать, как на пример одного из наилучше управляемых городов Европы — Глазго. В Глазго налогов нет ни на дома, ни на торговые предприятия, ни на собак, ни на что. Город извлекает доходы из целой серии предприятий: водопровода, трамвая, освещения, бань, домов, магазинов. Всё действует на коммерческих началах и приносит доход, причём и цены устанавливаются такие, чтобы и предприятию, т. е. городской кассе, было хорошо, и обывателю не тяжело, а где надо и вовсе дёшево. И сколько добра делается на эти доходы; какие школы, какие больницы, какие удобства всякого рода, какие квартиры для бедных!..
Вот ответ на злосчастное: денег нет, людей нет! Есть, где умеют найти, и деньги и люди...
Были бы они и у нас...
VI. Волокита в городских хозяйствах
Один из главных недостатков всех городских хозяйств мира—это некоторая неповоротливость, медленность в решениях. Посмотрите, как долго тянется у нас в думах любое дело, дело трамваев, например. Право, иной раз успели бы сдать это дело концессионерам и срок концессии успел бы уже пройти, а дума всё ещё не успевает решить, — как, где, каким способом и какой системы построить трамвай. В этом большая разница между акционерным обществом или товариществом и думой. Если спросить любого подрядчика: с кем ему приятнее иметь дело, он вам ответит: с кем угодно, даже с казной, лишь бы не с городом. Поэтому города платят подрядчикам дороже, чем другие учреждения, а тем более, чем частные лица. Договоры на городские работы пишутся всегда очень строго, с неустойками за плохую работу, за неисполнение в срок, за малейшую неаккуратность.
Часто условие не исполняется по вине самого самоуправления и вот вам начало целого ряда тяжб, тормозящих дело и дорого стоящих обеим сторонам. Понятно, что возможность этих беспорядков, тяжб и сопряжённых с ними убытков действует на цену подряда или найма. Этим объясняется, что город всё делает дороже простых обывателей. И при всём том городское дело делается не лучше, а большей частью хуже, чем у частных лиц.
Чтобы видеть, отчего это происходит, сравним городское самоуправление с акционерным обществом. Управа соответствует правлению, дума — общему собранию. Общее собрание акционеров — это и есть тот орган, чьи интересы должны быть соблюдены. Оно и решает дело в своих личных видах и выбирает правление почти всегда из лиценаиболее заинтересованных в деле. Это правление и вертит делом, как хочет. Ясно, что раз они ведут своё собственное дело, у них руки развязаны для дела.
Другое дело в городском самоуправлении. Сама-то дума ведёт не своё личное дело, а дело города, горожан. Сама дума, хотя в чём и безответственна по закону, но перед общественным мнением она отвечает. При этом как бы в какой-нибудь думе ни низко стоял уровень этических требований, но эта ответственность всё-таки чувствуется гласными. Приведу пример: гласный делает в думе явно выгодное для города предложение какой-нибудь поставки. Он даже барыша брать не хочет и рискует остаться в накладе. Дума, строго говоря, не может принять его предложения из боязни, что её будут упрекать в угодливости к своим. Да и гласному нельзя посоветовать такой любезности.
Личный интерес членов управы ещё менее связан с интересами города, чем интересы гласных. Правление акционерного общества чувствует себя хозяином, оно ведёт своё дело. Управа ведёт чужое дело, тем более ответственное. Она может чувствовать себя лишь управляющим, а никак не хозяином. Ответственность её еще тяжелее, чем ответственность думы. Кроме ответа перед общественным мнением, она отвечает ещё перед думой. Да и за грехи-то думы перед общественным мнением почти всегда отвечает управа, a то и один голова. Такова уже общественная логика. Мне приходилось быть свидетелем таких сцен. Гласный уговаривает думу сократить какой-нибудь расход. Управа протестует. Дума, несмотря на этот протест, соглашается с гласным. Проходит несколько времени: тот же гласный происшедшее от излишней экономии зло ставит в вину управе. А об общественном мнении и говорить нечего. Перед публикой всегда виновата управа. Публике нельзя разбираться в том, кто прав, кто виноват, и нападки её всегда почти направляются на управу.
Тем более управа отвечает за своих агентов. Число этих агентов иногда доходит до нескольких тысяч. И вот если служащий, а то и контрагент города, вроде подрядчика, наносит городскому делу ущерб, поднимаются крики против управы; она не доглядела, хозяйство никуда не годится и т. д.; хорошо ещё, если не бросают в неё обвинения в нечестности.
Даже стихийные несчастья ставились в вину управам.
Понятно поэтому, что в городском деле управам приходится быть ещё более осторожными, чем думам.
Но у управы есть ещё одно обстоятельство, связывающее ей руки. Иногда по закону, иногда по думскому постановлению ей приходится сравнительно неважные дела доводить до думы.
А так как в думе столько дел, что иным из них несколько месяцев приходится лежать, пока до них дойдёт черед, то понятны происходящие от этого потери времени.
Я знал случаи, и много таких, когда пустое предположение о постройке торговой будки на площади удовлетворялось, когда в постройке её уже не было надобности. А земельные дела, требующие не только санкции думы, но и особо полного состава её, кое-где затягиваются так, что целые поколения не могут регулировать своих отношений к городу.
По-видимому, желателен как можно больший контроль думы над своим исполнительным органом. При этом как будто желателен контроль не только по исполнению известной работы, но и вмешательство в дело до его окончательного решения.
Часто гласный, сделав дельное замечание, заметив ошибку в смете или расчёте управы (а где их нет?) и тем сберёгши несколько сот рублей городских денег, очень гордится своим подвигом. Но опасно из этого выводить заключение, что надо побольше дел проводить через думу, так как она сбережёт городские деньги. Если бы эту смету или расчёт провести ещё через другое, еще более многолюдное собрание, очень возможно, что могли бы быть сделаны еще более значительные сокращения расходов. Несомненная польза таких сокращений отнюдь не вознаграждает то, иногда громадное, зло, которое происходит от недостаточной самостоятельности управы.
Кроме происходящей от этого волокиты — и в денежном отношении такие выгоды гораздо меньше возможных упущений.
Например: дума потребовала, чтобы торги выше известной суммы утверждались ею. Между тем представляется возможность сделать работу или купить материал очень выгодно, воспользовавшись случаем. В большом хозяйстве такие случаи представляются часто и каждый раз созывать экстренное собрание думы немыслимо. Приходится отказаться от выгодной покупки и ради формы мириться с большими убытками.
Желание ввести в управские дела более, по мнению гласных, бдительное око самих хозяев, как они часто себя называют, и сознанная невозможность для думы вникать в эти дела вызвали образование думских исполнительных комиссий. Некоторые комиссии считаются чуть-ли не началом всех зол городского хозяйства, другие, наоборот, видят в комиссиях всё спасение. Комиссиям думы доверяют больше, чем управам. Комиссии состоят из «своих», тогда как управа из «не-своих».
Отчасти такое разделение на «своих» и «не своих» правильно, потому что в управу на платные должности головы и членов избираются люди несколько особого характера, чем гласные, считающие себя хозяевами или «отцами» города. От этого недостатка у членов управы « родительских » чувств и происходит недоверие настоящих «отцов». В комиссиях же, почти всегда бесплатных, сидят сами «отцы». Им и доверие больше. Хотя комиссии несколько более подвижны, чем дума; им, к сожалению, тоже присуща волокита. Правда, собираться не могли бы чаще и при том, когда нужно, по приглашению управы, но на практике почти везде заседания комиссий посещаются плохо. Гласные, не без основания говорят, что и в думе работы довольно для людей, не только ничем не вознаграждаемых, но часто вынужденных для дел общественных бросать свои личные дела.
Все, что тормозит деятельность думы и управы, присуще и комиссиям. Та же необходимость часто истинную пользу приносит в жертву разным соображениям политического свойства, та же малоподвижность, та же еще большая, чем у управ, неподготовленность к делу и при этом возможность не собираться, когда не хочется — и вы получите орган ещё более медлительный, чем управа.
Волокита в городском хозяйств присуща и иностранным городам, хотя последнее время везде замечается стремление дать большую самостоятельность исполнительным органам.
В наших же думах, чтобы человек не делал злоупотреблений, ему связывают руки. Ясно, что со связанными руками он не сделает зла, но не сделает и добра. Против злоупотреблений отдельных лиц есть другие средства: фактический контроль (не препятствующий делу, но строго проверяющий сделанное), полная и безбрежная гласность и, наконец, перенесение центра тяжести работы с тех частей общества, которые теперь пользуются доверием, на другие, более достойные доверия и ныне с неудовольствием и по необходимости допускаемые к работе в качеств третьего элемента.
VII. Дума
Цель существования думы, управы, гласных одна — благо города, т. е. благо обывателей. Главный поэтому вопрос, или, скорее, единственный вопрос, который нам представляется, когда мы хотим критически отнестись к нашим думам, — следующий: соответствуют ли думы, т. е. состав их, и всё законодательство, по которому они действуют, наилучшим образом пользе обывателя. Я, конечно, подразумеваю под словом „обыватель" всякого жителя города от первого до последнего, постоянного и временного. На этот вопрос может быть только один ответ: не соответствуют.
Если спросишь обывателя, кому бы он вверил свои хозяйственные интересы, то несомненно он обратился бы не к тем, кто в настоящее время ведает это хозяйство. Возьмите нашу прессу. Только немногие органы нашей печати, которым дела нет до обывателя и которые все вопросы—политические, общественные, научные, хозяйственные решают с точки зрения пользы своей, какими бы громкими, хотя и явно ложными принципами они ни прикрывали своего всепоглощающего эгоизма, — только такие органы печати, не краснея, могут все недостатки нашего городского хозяйства сваливать на самую сущность принципов самоуправления. Вся остальная печать, не весь стыд потерявшая, строго разграничивает то, как наше хозяйство ведётся от принципов, на которых таковое основано. Преклоняясь пред принципами, пресса, не скрывая грехов, указывает на все недостатки самоуправлений. А недостатков этих страшно много у всех, начиная от столиц и кончая городами с так называемым упрощённым самоуправлением. Недостатки эти видны каждому обывателю и редкий обыватель не вторит прессе в осуждении своих городских деятелей.
Повторять все эти обвинения здесь не место. Но указать главные основания розни обывателей и их представителей не мешает.
Главное, что уже давно вызывает наибольшее число нареканий, это — состав гласных. Гласным может быть: 1) домовладелец, 2) купец. И только. Другими словами, для избирателя и гласного есть один ценз: ценз имущественный и при том очень высокий. Ценза образовательного не надо. Пусть профессор окончил три университета в России и за границей, написал учёное сочинение, давшее ему всемирную известность, но права положить шарик тому или другому кандидату в «отцы города» он не заслужил. Право это предоставлено его соседям, нажившим дома, один, быть может, ростовщичеством, другой, торгуя кабаком, третий, того гляди, и домом терпимости. Ну, не досадно ли?
Теперь в Петербурге (почему только в Петербурге?) квартиранты получили право избрания, но и это право распространилось на лиц, живущих лишь в больших квартирах, так что мой учёный, живущий в меблированных комнатах, всё ещё счастья попасть в гласные или даже избиратели не получил.
Рассуждают так. Город состоит из домов; если большинство думы будет состоять из обывателей недомовладельцев, то они могут обложить дома, как главный предмет обложения, до такой степени, что домовладельцам останется запереть дома и бежать. Понятна склонность людей неимущих облагать имущих в свою пользу. Так говорят защитники теперешнего порядка, забывая обратную сторону медали. Действительно, в теперешнее царство домовладельца и крупного торговца мы видим совершенно обратную картину. Домовладелец поглотил обывателя. Долго останавливаться на этом нечего. Все знают, что громадное большинство русских городов не хочет вовсе знать больничного дела, довольное, что может эту обузу свалить на земство. Кое-где даже и народные школы в городах устраиваются земствами. Действительно, ведь домовладелец и крупный торговец пригласит учителя, доктора к себе. Ему больница, школа не нужна. Для центра, где живут богатые домовладельцы — и улучшенные мостовые и порядочное освещение; для окраин — ухабы и мрак. На окраинах в Тамбове тонет на улице лошадь, окраину и в столице тщательно оберегают от общения с центром, чтобы не понизить в центре квартирных цен. А невероятно низкие обложения в некоторых городах, ещё стесняющие круг избирателей, понижающие максимум оценочного сбора, сплачивающие «отцов города» в совсем семейный кружок!
Это зло от домовладельческих дум мы видим везде, испытали его много раз, тогда как страхи противников, конечно, на деле бы не оправдались. Ведь стоит назначить, как оно, впрочем, и есть, предельное обложение, и бояться переобложения домов нечего. Зато обывательские дела ведались бы обывателями; участвовали бы в работе и жители верхних этажей, и подвалов, и окраин.
Да и без предельного обложения сама жизнь установила бы нормы этого обложения. Ведь и обывателю-недомовладельцу выгодно, чтобы домов было больше, чтобы дома были лучше, чтобы торговые обороты увеличивались; выгодно, чтобы было хорошо и домовладельцам и торговцам. Разорить домовладельцев значило бы разорить и обывателя. Поэтому предоставление прав одной категории жителей может повести к ущербу всего города на пользу привилегированной категории; привлечение же к работе всех жителей не может повести к разорению одного какого-либо класса. Для всех выгодно, чтобы всем было хорошо, чтобы было равновесие всех классов. Поэтому расширение круга избирателей могло бы исправить настоящие недочёты самоуправления без малейшего риска подвергать города тем ужасам, до продажи их с торгов за долги включительно, которые предсказываются противниками этой насущной реформы.
Гласными думы могут по настоящему законодательству быть все избиратели. Между тем, я полагаю, что требования от избирателя и гласного должны быть различны. Избиратель, т. е. обыватель, должен только сказать одно: желает ли он такого-то иметь гласным, верит ли он ему или нет. Гласный должен, кроме доверия обывателя, обладать ещё и положительными знаниями. Он должен решать вопросы санитарии, архитектуры, бухгалтерские, финансовые и другие. Гласный должен быть человек разносторонне образованный. А образования-то от него и не требуется. Поэтому, если ценз нужен, то гораздо более для гласного, чем для избирателя. Я разумею, конечно, ценз образовательный. Я говорю: если ценз нужен, потому что убеждён, что обыватель, хотя бы и темный, сумел бы разобраться в своих кандидатах и кроме доверия потребовал бы от него и научного знания и умения. Но во всяком случае главная беда наших дум — власть так называемых «черных сотен» — могла бы быть парализована, за невозможностью более радикальной реформы, введением образовательного ценза.
Состав избирателей влечёт за собой при выборах избирательную борьбу интеллигентной партии с «чёрной сотней». И вот приходится сплошь да рядом присутствовать при удивительных результатах такой борьбы. Вдруг узнаёшь, что лучшие силы из избирателей, все мало-мальски учившиеся, забаллотированы. Забаллотированными оказываются люди, составляющие красу местного земства. Стыдно бывает за выбиравших. И после этого находятся люди, не стыдящиеся взваливать на самые принципы самоуправления результаты искажения этих самых принципов!
Вторая главная причина нареканий на самоуправления заключается в отношениях органов самоуправления к администрации.
То, что прежде называлось «органами общественного самоуправления», теперь переименовано в «органы городского управления». В этом сказывается всё. И я не ошибусь, если скажу, что дела делаются хорошо или плохо в зависимости не только от того, хороша или плоха дума, но и от того, какие у неё отношения к местной администрации. Самые лучшие начинания думы могут погибнуть, если местная администрация отнесётся к ней или к органам недоброжелательно. Я знаю тому не один пример. Самый выгодный для города проект проваливался, потому что без всякой причины администрация накладывала свое vetо.
И не говорите мне, что у думы есть право обжалования. Конечно, оно есть. Но независимо от того, что такие дела ждут по нескольку лет своего решения, даже и благоприятное для думы решение сената часто не приводится в исполнение. Средств для этого у администрации довольно. Я уже не говорю, что придерживаться и в других случаях таких решений сената совсем не считается обязательным не только для других местностей, но даже и для той, по отношению к которой это решение последовало. Общее правило таково, что дело городское может идти хорошо только при условии хороших отношений администрации к думе, управе, голове. К сожалению, кажется, чаще можно указать на случаи дурных, нежели хороших отношений. Должен сказать, что мне близко известны случаи, где администрация не только никогда ни одной палки не вставляет в колёса городского хозяйства, но, наоборот, сама готова отстранить могущие встретиться препятствия.
Часто хорошие отношения покупаются городским самоуправлением слишком дорогой ценой. Приносятся в жертву принципы, которые должны храниться свято всеми, кто имеет честь быть одним из штифтиков крупного механизма самоуправления. Не о таких жертвах я конечно говорю, рекомендуя добрые отношения. Я констатирую факт, что без добрых отношений плодотворной деятельности добиться трудно. Большей частью, конечно, это зависит от самой администрации.
Третий повод к нареканиям обывателя на самоуправление — полная невозможность для его органов провести в жизнь многие самые насущные постановления думы. Возьмём всё, что касается внешнего благоустройства города и что должно быть исполнено самими обывателями: соблюдение правил санитарии, строительных, торговых. Что может сделать управа, когда эти правила нарушаются? Обратиться к полиции? А полиция? Составит протокол и передаст его в суд, решение которого, по вступлении в законную силу и прошедши иногда две инстанции, приводится в исполнение. Покажем, как это иногда делается на практике. Устраивается, ну, скажем, кузница с нарушением строительных обязательных правил, т. е. там, где это не дозволено. Следящее за этим делом лицо доводит об этом до сведения полиции. Полиция составляет протокол и берёт подписку с кузнеца, что он недозволенных работ производить не будет. Протокол идет к судье, где иногда год и более ждёт своего решения. Наконец, кузница сносится, а кузнец штрафуется на незначительную сумму. А работать-то ему нужно было всего несколько месяцев и он нарушал всё это время покой жителей и, что ещё важнее, угрожал своей кузницей соседним постройкам в пожарном отношении.
Другой пример. Домовладелец содержит свой двор в невозможно грязном и антисанитарном виде. Ему до этого дела нет, Жильцы у него бедные, дом всегда полон. У него одна забота: больше получать, меньше расходовать. Составляется протокол. Через год он платит незначительный штраф. Новый протокол — новый штраф. А дом всё в том же виде, а жильцы и дети их мрут от разных инфекций. Да ему выгоднее по десяти штрафов в год платить, чем держать двор свой в хорошем виде!
А между тем, главная часть расходов на полицию лежит на городе, судьи тоже иногда получают жалованье от города. Я уже не говорю о случае, когда полиция кому-либо покровительствует из тех, на кого надо составлять протоколы. И нельзя сказать, как говорят некоторые, что городские порядки, и полиция, и суд таковы, каковых заслуживает культурный уровень населения. Если на самом Невском проспекте хорошенько покопаться, то найдутся такие нарушения самых элементарных санитарных правил, что в ужас придёшь. Тут культурный уровень ни при чем. Очевидно, желательно было бы изменить весь полицейский строй наших городов и ускорить (только ли увеличив численно?) судебную волокиту. Полная независимость полиции от самоуправления, полное отсутствие гласности в делах полиции, полная, наконец, безответственность её — вот те главные причины, вызывающие так часто нарекания не только на неё, но и на самоуправление. Вот это-то и особенно досадно. Ведь обыватель не вникает в подробности дела, он знает, что забота о санитарных условиях города лежит на самоуправлении, и ну ругать самоуправление. Но чтобы водворить санитарию, мало написать обязательные правила и следить за их нарушениями, надо ещё иметь хорошо организованные исполнительные органы для пресечения этих нарушений и быстро действующую судебную организацию, чтобы карать нарушителей. Думаю, что и закон мог бы быть строже для них. A то ведь пятирублевый штраф для домовладельца более похож на шутку, чем на наказание.
VIII. Гласные
Односторонне направленное законодательство даёт повсюду одинаковые результаты. Естественно, что наша система вылилась по всей России в одинаковых формах. Немножко больше, немножко меньше — но характер дум один везде. Охарактеризовать положение можно одним словом: везде у нас господство „чёрной сотни"!
Да и не удивительно, когда и общий и кое-где частные законы все направлены к одному: не допускать в думы интеллигентов. Так уже мир создан, что капитал и интеллигентность не совпадают, a у нас в России даже противополагаются друг другу более, чем где-либо. А если случайно мы и присутствуем при таком совпадении, то верх почти всегда берёт капитал. Интеллигентность в таком человеке мало-помалу прячется, входит в компромиссы и, в конце концов, уступает место сильнейшему противнику. Понятно после этого господство чёрной сотни, — их призвал закон владеть городами! Им и книги в руки!
К усилению этой категории гласных ведут и частные законы. Запрещение евреям участвовать в собраниях и в качестве гласных и в качестве избирателей — не на руку ли это чёрной сотне? А ограничение числа христиан на Кавказе? Даже как-то трудно выговаривается. Ограничение избирательных прав евреев может быть объяснено, ну, хоть нетерпимостью религии. А ограничение числа христиан? Чем это можно объяснить, как не светобоязнью? Не лучше ли было бы на Кавказе не определять числа гласных по религиям. Пусть одна дума была бы хотя сплошь армянской, другая сплошь татарской. Что же из этого ясно? Ясно, что всё это ведёт к одному — к уменьшению интеллигентности дум.
Напрасно подумает слушатель думского заседания, что вершат в думах дела гласные, сидящие в первых рядах и произносящие блестящие речи. Чего вы тут не услышите? И призывы к свету, к гуманности, к добру, призывы часто искренние, часто бьющие на эффект в надежде попасть в следующий номер газеты. Услышите вы тут и призыв назад, большей частью искренний, но и тут иногда основанный на тонком практическом расчёте. Иногда публика аплодирует то тому, то другому оратору. Но не тут дело делается. Начинается резюме головы, и вдруг в залу бегут курившие во время прений гласные и при голосовании постановляют решение, часто являющееся неожиданностью для публики и противоречащее тому, что говорилось во время дебатов, но предвиденное хорошо знающими потайные пружины муниципального механизма.
Сидят в думе голова, члены управы, председатели ревизионной, совещательных, исполнительных комиссий. Они знают дело ближе других. Но они ли оказывают главное влияние на ход думских дел? Иногда они, а иногда гласный, который никогда в думе и слова-то не проронил. Такой иногда гласный, а то и обыватель не из гласных (бывают и такие случаи), является буквально вершителем всех городских дел. Есть города, где всякое решение не только думы, но и управы, выборы самой управы, приглашение разных лиц на службу — всё это делается не иначе как с благословения какого-нибудь всесильного человека. Голова, члены управы, третий элемент — все в зависимости, той или другой формы, от этого фактического и действительного хозяина города. И это случай далеко не единичный.
В особенности закулисная борьба и потайные влияния легко наблюдаются при выборных кампаниях. Совершенно открыто пишется про эту агитацию в газетах. Заранее влиятельными лицами составляются списки гласных, причём избиратели являются удивительно дисциплинированными. Я говорю про большинство, которое всегда в думе ненавидит интеллигента.
У каждого жителя провинциального города на уме, как прокатывали людей высоко образованных, выдающихся земских деятелей.
Надо оговориться. Если бы агитация велась около конкретного какого-нибудь факта, если бы выставлялись pro и contra такого-то или другого человека в отношении его к работе, тогда было бы понятно. Такого рода выборная борьба раскрыла бы горизонт для будущих деятелей. Но, увы! не о деле пекутся эти господа, а о чисто личных интересах! Один ли человек забрал силу вследствие своего (конечно имущественного, а не образовательного) влияния на большинство избирателей, или группа лиц, связанных общими интересами, вот что создаёт почву, на которой строится здание самоуправления.
Наиболее разыгрываются разные аппетиты, когда дело идёт о городской земле. В центре России можно указать целые состояния, образовавшиеся более или менее нахальным, более или менее легальным захватом городских участков. Там же, где земельные отношения не вполне урегулированы, где нет правильно составленного земельного инвентаря, там ещё более разгораются глаза на городскую землю. Естественно, что все те, которых аппетит в этом отношении не вполне удовлетворён, скрыто, если не откровенно, будут против всякого, кто бы мог им противодействовать.
Деньги так привлекают людей, так их сплачивают, что естественными центрами денежных групп являются банки. Связь между городским самоуправлением и местным общественным банком очень ярко начала высказываться в семидесятых годах, когда начали основываться городские банки. Затем, после ряда крахов, связь эта перестала быть непосредственной, как прежде, но и теперь во многих местах она чувствуется. Банковские деятели сплошь да рядом и являются тем избирательным центром, вокруг которого группируется всё имеющее связь с кредитом и векселями. А это и есть среда, ведающая городское хозяйство. Недавно ещё мы были свидетелями страшно интенсивной избирательной борьбы в одном из крымских городов. Все средства считались дозволенными. Пресса участвовала в борьбе. Партии так и назывались: банковская и интеллигентная.
Кром двух постоянно встречающихся, довольно сплочённых, «групп гласных, интеллигентной и чёрной сотни», почти в каждой думе есть гласный или два, составляющих всем и всему оппозицию. Это люди желчные, видящие во всём злоупотребления и всегда открыто всех в этих злоупотреблениях обвиняющие. Странная вещь: присутствие таких людей как будто неизбежно в каждой думе. По-видимому, такие гласные должны бы быть очень полезными. К сожалению, на практике это не так. Увлекаясь мелочами, a то просто видя зло, где его нет, они пользуются малым авторитетом и часто за деревьями леса не видят.
IX. Думские заседания
Закон предвидел неохоту, с которой гласные будут посещать заседания. На сельских сходах для обычного схода требуется половина домохозяев, а для сходов, обсуждающих особо важные дела, — две трети; думское заседание (в больших городах) считается состоявшимся при одной трети гласных и может важные дела, касающиеся займов, земельных дел, решать при половине. К тому же на сход должен идти всякий. Положим, я — крестьянин, рождён без всякого стремления заниматься общественным делом. Тем самым, что я — член известной общины, я обязан являться на сходы и исполнять общественное дело, и несмотря на это, закон требует большого числа явившихся на сход.
В стотысячном городе требуется восемьдесят гласных, восемьдесят отцов города, избранных, лучших людей. И вдруг закон в предвидении их нежелания работать усердно, сам назначает для законности собрания меныший процент всего состава, чем в деревне. И закон прав: сельские сходы в громадном большинстве случаев собираются даже в рабочую пору, а думские заседания сплошь да рядом объявляются несостоявшимися за неприбытием законного числа гласных; важные же дела целые месяцы, а то и года ждут, чтобы собралась половина отцов города! Правда, крестьян можно гнать десятскими, а за неявку всех поголовно перештрафовать без суда или пересажать в холодную, а господ гласных можно только просить, но ведь, подумайте, какая разница! Если бы были стотысячные сёла, то на сход должны бы явиться (100000 человек соответствуют 20000 домохозяев в деревне) от 10 до 13 тысяч человек, а в думу на стотысячное население от 27 до 40 человек, да еще каких отборных! Где же причина?
Индифферентность лучших людей и стремление к общественному делу худших, да ещё каких худших! для которых писанного закона нет, а есть обычное право, для которых ещё есть телесные наказания, которых можно наказать без суда.
Ой, полно, читатель?! Не перепутались ли у нас с вами понятие о лучших и худших?
Итак, заседания думы часто не могут состояться. Поэтому надо думскую повестку составлять умело. Надо чем-нибудь да приманить гласных. Потому что ведь есть приманки для гласных. Есть заседания, на которые являются все гласные, в данное время находящиеся в городе. Таковы заседания, на которых происходят выборы головы или членов; заседания, на которых предвидится крупный скандал и, наконец, заседания, сильно задевающие интересы одного или многих гласных. Тут многое гонит гласного из дома или из клуба: и личный интерес товарища, и желание послужить ближнему, и столь понятный интерес скандала, превращающего иногда думское заседание чуть не в петушиный бой. Мало ли что иногда гонит гласного в думу! Конечно, есть гласные, любящие дело, интересующиеся всем, что в городе делается, есть даже не пропускающие ни одного заседания (как есть-таки — ни одного за все четырёхлетие), есть душу кладущие в дело, а не в сопряжённые с делом те или другие интересы.
Но если их много, то почему так ждут одного-двух гласных, не хватающих до комплекта? Почему их вызывают по телефону из клубов? Почему, несмотря на это, иногда заседание всё-таки не состоится?
Заседания думские всегда публичны. Есть случаи, где некоторые вопросы публично обсуждаться не могут. Например, если город имеет выступить конкурентом на торгах, как было в столицах по телефонному, делу, или если обсуждается судебный процесс с противником, которому не надо знать соображений гласных. Но эти случаи весьма редки и никогда никому в голову не придет протестовать против тайны таких заседаний. Но чтобы самый светобоязненный голова или чтобы сама дума когда-либо решили сделать заседание непубличным из-за опасения огласки чего-либо скандального или неприятного — этого я примеров не знаю. Но что меня постоянно поражало, это — отсутствие публики в заседаниях, как в думе, так и в земстве. Кроме газетных корреспондентов, народу очень мало, да и те или служащие думы или земства, или же лица, причастные к рассматриваемым делам. Публики же, идущей на заседание не из личного, а из общественного интереса, совсем не видно, исключая тех заседаний, о которых, наверное, можно думать, что без скандала не обойдётся.
Надо признаться, что наш брат, общественный деятель, ораторским талантом не отличается. И в вину нам это ставить нельзя. Негде было развивать нам этого таланта, а главное не на чем. Надо часто и много говорить публично, чтобы приобрести навык. Часто и много говорят у нас только адвокаты и священники, причём последние — на своеобразном языке. Между ними и встречаются ораторы. А нам не приходится в наших речах слишком распространяться потому, что очень уж ограничена сфера общественной деятельности. Дума да земство, а больше ничего и нигде. Но как-никак, а можно бы от обывателя ожидать большего интереса к заседаниям.
Перейду к самому заседанию. В большинстве случаев во время заседаний гласные курят как в земских, так и думских собраниях. С зерцала снимается герб и тогда курение разрешается. При этом условии курят иногда и в правительственных заседаниях. Но есть думы, где курить в заседаниях не принято. Говорят, что курение противоречит достоинству заседания. Говорят также, что если гласные будут курить, то может закурить публика и что тогда в заседании дышать будет нечем. Это возражение, к слову сказать, неверно. Публика может выходить, чтобы покурить и, конечно, если гласные курят, то это не пример для публики. Публика это, конечно, понимает и в претензии не бывает. Я сам не курю и потому так горячо защищаю курение, а защищаю я курение вот почему. Надо считаться с условиями. А всем известно, как русскому человеку трудно час времени про-
сидеть без папироски. Сам курил — знаю! Так вот, когда в заседании не курят, гласных так и тянет в курительную комнату. Говорят, говорят и вдруг гласные заявляют: «да мы не в составе», — и ну звать гласных из курительной. И так во время прений даже на интересных вопросах половина гласных часто курит и нарочно, прокурив прения, является к голосованию. К чему же, спрашивается, прения, если без них можно обойтись? И к чему мы говорим? Других убеждать, или самих себя слушать? И хорошо же решаются вопросы!
Вот к каким выводам меня привёл вопрос о курении во время заседаний и почему он мне показался стоящим разговора. В громадном большинстве случаев прения думских заседаний ведутся довольно вяло. Редко в дружных и деловитых думах дела идут, и важные, и неважные, скоро и вызывая прения лишь по существу. Обыкновенно или спят, или ссорятся. А ссорятся жестоко и иногда по самым пустячным поводам. Власть председательская головы умаляется тем, что он же, в качестве председателя и управы, является часто и объектом для нападок, и вообще нужен большой авторитет председателя, чтобы сдерживать страсти в должных границах. Больно мы плохие спорщики: все хотим зараз говорить.
Надо к этому прибавить, что в наших думах гласные далеко не парламентарны. Сплошь да рядом в газетах читаются возмутительные выходки гласных: обвиняют членов управы, а то и всю коллегию, в злоупотреблениях. Доходит до того, что гласных выводят. Так, по крайней мере, делалось в думе одного из наших больших городов. Как это практически делается, кто решает, когда гласного надо вывести и кто это приводит в исполнение — я не знаю. Но факт налицо.
Я , признаться, не понимаю, для чего закон определил такой странный порядок назначения заседаний. Узаконенное число заседаний заранее определяется особым утверждённым и думой и администрацией расписанием. При этом всякое заседание может продолжаться и один день, и два, и больше, сколько нужно, чтобы рассмотреть все дела. Кроме того, с разрешения губернатора могут ещё быть назначаемы экстренные заседания. На практике думских заседаний (я называю заседанием однодневный съезд) бывает сколько угодно и когда угодно. Было бы проще разрешить голове собирать думу, когда нужно.
Весьма стеснённому в исполнительной своей роли голове дана большая распорядительная власть во всём, что касается программы заседания. Он может пустить одно дело скорее, а другое оттянуть на неограниченное время. За множеством дел можно всегда отговориться недостатком времени. Да и в самом заседании он может докладывать вперёд те дела, которые хочет. В самую повестку вносятся доклады управы или одного головы. Если он, например, в чём-либо не согласен с управой, то может это разногласие передать на обсуждение думы; член же управы фактически этого права лишён.
Конечно, права головы в действительности гораздо меньше. Дума всегда может чисто нравственным давлением заставить его подчиняться её желаниям, даже если закон на его стороне.
Весьма важное значение имеет протокол заседания. В нём отражается все сказанное. Важно в большинстве случаев не одно решение думы, но и его мотивировка. Всякое, по-видимому, самое незначительное постановление может впоследствии разыграться в крупное недоразумение. Приходится обращаться к протоколам, и тогда выступает вся важность хорошего протокола. Закон, чтобы освободить секретаря от одностороннего влияния головы, сделал эту должность выборной.
Секретарь зависит от думы, а не от головы. Это имеет свою хорошую и свою дурную сторону.
Конечно, если голова через посредство зависимого от него всецело секретаря будет в ему приятном, но несоответствующем действительности свете освещать происходящие в думе прения, это будет противно и правде, и интересам собрания.
С другой стороны, иногда думы выбирают секретаря, который не на высоте положения и не может быть хорошим протоколистом. Передавать прения как они были, с оттенками, пропуская все неважно — дело весьма нелёгкое и требует известной специальности. Есть мастера этого дела.
Так, положим, что дума выбрала плохого секретаря. Голова следит за его работой, но не может же, да часто и не сумеет, составлять за него протоколы. Посвящать часть заседания не только исправлению, но даже чтению протокола предыдущего заседание большей частью не хватает времени. И остаётся плохой протокол, а плохой протокол иногда источник больших бед.
Поневоле вспомнишь земские собрания с их секретарями из гласных. Какие прекрасные секретари вырабатываются! Точно фонографируют заседание! Ещё два слова: желательно было бы, чтобы все прения стенографировались, но, к сожалению, стенография у нас не процветает и очень дорога. Да и гласным вряд ли всем захочется, чтобы навеки запечатлевались все их речи...
X . Общественная деятельность
Общественным деятелем склонен считать себя всякий. Даже люди, деятельность которых наименее как будто направлена на благо общества, даже и те видят в такой деятельности не одно стремление к собственной пользе. Крупп.., и он вам скажет, что работает для блага общественного.
Так же думает ростовщик, склонный не только извинять свои высокие проценты, но умиляться тем благодеянием, которое он совершает, давая в рост бедняку деньги. Эгоизм так противен этике и так вместе с тем приятен, что любой эгоист склонен этот порок свой прикрывать не только для людей, но и для себя самого более возвышенными побуждениями...
Общественных деятелей (я говорю о настоящих) на западе гораздо более, чем у нас. Там общество более самостоятельно, менее ходит на помочах, более рассчитывает на собственные свои силы. Естественно, что и работников оно выдвигает больше. Для примера возьмём прессу.
Деятель прессы, если у него искреннее намерение воздействовать на часть общества, если у него действительное стремление принести пользу людям, а не себе одному, есть, очевидно, общественный деятель. Так, как же сравнить писателя заграничного с писателем русским? Один пишет, редактирует и издает что, как и когда хочет. Другой издает и редактирует лишь при особенно благоприятном стечении обстоятельств (иному издательства или редакции, как ушей своих не видать), да и пишет-то с оглядкой, между строк, перифразами и иногда так, что теперь чуть не особый язык создаётся, особенно обильный риторическими фигурами умолчания, — язык русской газетной прессы. Естественно, что на одного писателя русского мы имеем десятки иностранных.
То же явление наблюдается у нас и в других родах общественной деятельности. То, что за границей является продуктом самодеятельности общества, у нас узаконивается, регламентируется, предписывается, контролируется сверху, при почти полном бездействии общества, На самодействие общества приходится рассчитывать или в таких делах, которые не успели быть вполне регламентированы, как, например, благотворительность, или в таких, которые почему-то ещё предоставлены местному самоуправлению.
Эту последнюю деятельность — деятельность самоуправления — и принято у нас называть общественной в узком смысле этого слова.
Естественно, что и такая деятельность, в виду своей исключительности, встречает на своем пути гораздо более терний, чем такая же деятельность за границей. В настоящей статье я намерен касаться не терний внешних, за полной бесполезностью такого обсуждения, а терний внутренних, исходящих из того же общества, для которого призваны работать общественные деятели.
Должен я здесь оговориться, что хотя деятельность наших самоуправлений и может быть названа самодеятельностью, но и здесь самодеятельность далеко не совершенна уже потому, что призвана к работе весьма малая часть общества, причём призванными оказываются не те, которые могли бы принести обществу наибольшую пользу, а те, которые почему-то считаются наиболее достойными заведовать нашим городским и земским хозяйством. Гласные в земских собраниях, думах, комиссиях, головы, председатели и члены управ в своём месте обсуждают дела и заправляют хозяйством, которое непосредственно лежит на обязанности так называемого третьего элемента. Обязанности и права всех этих лиц строго определены законами, деятельность их нормируется общими принципами подчинения своей личной выгоды общественной пользе, служения делу до последней капли крови, полной беспристрастности и т. д. Обязанности сплошь да рядом не исполняются, права превышаются, принципы, хотя бы самые общеизвестные, не соблюдаются. Но тем не менее эти обязанности, права и принципы строго урегулированы законами и прописной моралью и, несмотря на разницу между ними и жизнью, останавливаться на этом не стоит.
Гораздо интереснее другой вопрос, более тонкий.
Общественный деятель, будь он гласный, член управы, врач или статистик, делает дело общественное. Естественно, что общество и должно быть судьёй в том, хорошо ли или плохо делает известное дело общественный деятель и в том, вообще желательно ли, чтобы он продолжал службу, или ему лучше уйти.
Мнение общества узнать легко, например, в Швейцарии. Помню случай, когда голоса в муниципалитет разделились по поводу постройки городского тнатра. Вопрос сильно заинтересовал город, и муниципалитет, чтобы сложить с себя ответственность, решил запросить горожан. Называется это ad referendum (к докладу) и является как бы плебисцитом. Действительно, кому лучше знать, стоит ли истратить большую сумму денег на тнатр или на народный дом предпочтительно перед другою потребностью, как ни тем, кому предстоит ходить в этот тнатр или народный дом?
Ясно, что при таком порядке не только вопрос о желательности службы известных общественных деятелей, но и отдельные вопросы хозяйства решаются наилучшим образом — при условии, конечно, известной интеллектуальной зрелости населения. Не так совершенно действует механизм обращения с избирателями при парламентарном режиме. Там органы управления (министерства во Франции, Англии) зависят от палат. В случае несогласия министерства с палатой, если глава государства полагает, что не министерство, а палата не соответствует воле народа, палата распускается и сам народ произносит свой суд над министерством.
При таких условиях этика общественного деятеля очевидна: работай, как умеешь, а когда твоя работа не будет угодна избирателям, тебе это скажут в той или другой форме, и тебе остаётся одно — уступить место другим.
Другое дело у нас. Даже в той ограниченной сфере деятельности, какая предоставлена нашему самоуправлению, голос людей, заинтересованных в том или другом решении вопроса, не может дать себя знать. Он заменяется голосом земства и думы, состоящих из представителей незначительного меньшинства, интересы которого не только не идут рука об руку с интересами всей массы обывателей, но часто даже в разрез с ними. Выбранное на три или на четыре года собрание является безапелляционным решителем судеб уезда, губернии или города и за это время может н считаться даже с мнением узкого круга своих избирателей.
Спрашивается: как быть общественному деятелю? Когда он должен почувствовать себя не у места, если никакими средствами не может услыхать голоса тех, интересам которых служит и мнение которых считал бы для себя решающим?
Я оговариваюсь: мнение обывателя, другими словами, общественное мнение, могло бы вполне ясно проявляться в прессе, но для этого нужна была бы совсем свободная пресса. A то можно ли возлагать в этом отношении надежды на прессу, когда с одной стороны в громадном большинстве случаев прессы совсем нет, с другой — там, где она есть, часто слышится по непредвиденным для самой прессы обстоятельствам не желательный голос независимого органа печати, а фальшиво крикливый голос разнородных рептилий. Очевидно, на одну прессу у нас полагаться нельзя, хотя при других условиях это могло бы быть тоже постоянное обращение к обывателю ad referendum.
Судьёй, говорят некоторые, в этих случаях должен быть собственный внутренний голос. Деятель сам должен чувствовать, угодна ли его служба населению и приносит ли он действительно ту пользу, которую считает своим долгом приносить.
Конечно, совесть хороший судья, но для этого нужна такая объективность, которая составляет удел немногих. Да ещё вопрос, может ли быть человек настолько объективен, что совесть его может быть безошибочным судьёй? Думаю, что нет, даже если предположить полнейшую добрую волю.
А можно ли её всегда предположить во всяком среднем человеке? Допустить решающий голос совести значит уничтожить всякий внешний контроль. Я чувствую себя полезным и угодным населению — это мне подсказывает моя совесть — скажет всякий, самый бессовестный человек.
Ясно, что регулятор должен быть не внутренний, а внешний, чтобы всякий мог сказать: « видишь такие-то явления? Тебе надо уходить». Этика общественной службы должна дать законы ясные для всех, хотя бы не совсем совершенные. Нужно, чтобы правило было настолько ясно, чтобы не могло быть двух мнений – должен ли человек оставаться на своем месте или уходить.
Думаю, что общественного деятеля можно сравнить с солдатом на часах. Хорош ли, плох ли его поставивший — он стоит и сойти с места не может, пока не придёт разводящий (так, кажется? — я плохо знаю военные термины) и не отпустит его.
Так и общественный деятель (я говорю о служащих по выбору), будучи на месте, должен действовать по совести и неуклонно держаться пути, который он себе наметил, пока не придёт разводящий, хотя бы он был не тот, который наиболее желателен.
А таким разводящим у нас может быть только собрание, избравшее управу и ею руководящее, т. е. земское собрание или дума. Хотя бы мнение собрания, ясно и определенно выраженное, по мнению самого деятеля, было ошибочно и клонилось во вред населению — он должен ему подчиниться. Иногда такая отставка действительно принесёт делу вред, но этот вред будет во всяком случае меньше, чем тот, который происходит от навязывания себя общественным собраниям людьми, потерявшими доверие собрания, a то (что тоже бывает) и никогда его не имевшими и опирающимися исключительно на благоприятствующий им закон. Я думаю поэтому, что можно так формулировать основное положение этики общественного деятеля: деятель, выбранный на известный срок, должен безусловно прислушиваться к мнению земского собрания или думы, его избравших, и ни в каком случае себя не навязывать, когда ему будет ясно показано недоверие.
Само собою разумеется, что недоверие должно быть показано ясно. Надо хорошо понять разницу между недоверием и несогласием собрания принять тот или другой проект. Тут иногда может повредить излишняя щепетильность.
Бывают и такие случаи: иные гласные часто злоупотребляют гиперболами. Иногда своё отдельное мнение или мнение незначительного меньшинства они выдают за желание собрания.
« Собрание постановило в прошлом году то-то и то-то » , говорят они; а собрание, между тем, постановило обратное. То же делается и в прессе, когда собранию приписывается настроение, а то и решение, обратное тому, которое было в действительности. Такая неправда действует неблагоприятно для деятеля в общественном мнении. А постоянно опровергать ложь, когда это делается систематично, немыслимо.
Говорю я это к тому, что желательно было бы, чтобы доверие и недоверие собраний к управам или отдельным их членам высказывалось более определённо и чтобы последнее, если не по закону, то по обычаю, влекло бы за собою отставку лиц, лишившихся доверия.
Помимо того, что только обычай не оставаться на службе против воли собрания может дать возможность обществу отделаться от нежелательного служащего, всякому человеку,
близко знакомому с общественным делом, очевидно, что даже хорошая управа кроме вреда ничего не принесёт, если не пользуется доверием собрания. Может и не совсем логичен, но психологически верен тот факт, что лучшие иногда проекты управы проваливаются, если управа вообще не пользуется доверием. Ясно, что при таком условии плодотворная работа невозможна.
Не узаконенное в таком-то томе правило этики может быть узаконено обычаем. Может быть кроме этики общечеловеческой или этики сословной (врачебной, архитектурной) — этика отдельных учреждений, как, например, в данном случае.
Этика эта может создаться только обычаем. Таков был бы обычай обращения общественного деятеля если не к населению, как в Швейцарии, то хотя к своим избирателям-гласным.
Он, несомненно, был бы согласен с достоинством общественного деятеля, служащего только пока он желателен, a не навязывающегося обществу. А до тех пор он должен, несмотря на нападки отдельных лиц из собрания или из общества, оставаться на своём месте, как часовой на часах, и работать для того общества, которое ему доверилось.
XI. Городская управа
Прежде всего напрашивается вопрос: что такое голова и члены управы? Чиновники или общественные деятели? Я, не затрудняясь, могу ответить на этот вопрос так: члены управы вместе с головой — общественные деятели, сделавшиеся в последнее время почти совершенными чиновниками. Если превращение в бюрократов так сильно подвинулось вперёд в земствах, то тем полнее совершилось оно в городских управах. Разница в составе земских собраний и дум, в земских и городских идеалах не могла не сказаться и в этом отношении. Если в земствах противодействие обезличению кое-какое всё-таки замечалось и даже теперь в виде исключения замечается, то в городах не только не проявилось никакого противодействия, но деятели в большинстве были даже рады происшедшей с ними перемене. Если в земствах мундирное шитьё в большинстве носилось только по необходимости, в городах им часто гордились.
Но мундир, класс должности и прочие внешние признаки чиновника — далеко не всё, что содействовало его обезличению.
Это заслуживает более подробного рассмотрения. Не только во время службы в управе, но и для поступления на службу надо иногда заранее отказаться совершенно не только от своего «я», но и от солидарности с большинством думы. В Рязани, где дума почему-то вышла интеллигентной, целый ряд выбранных ею в головы лице не получили утверждения. Тут вопрос шёл не о могущих быть дефектах, реальных или кажущихся, отдельного лица, a о принадлежности к интеллигентной части думы. В числе избранных, но не попавших в головы, был, кажется, действительный статский советник.
Но, положим, человек попал так или иначе в управу. Может ли он не обезличиться? Если может, то только в самых исключительных условиях. Но вообще самая лёгкость увольнения «общественного деятеля» простым приказом уже должна предначертать ему способ действия; и если он этого предначертания не будет держаться, очевидно он может не сегодня, так завтра потерять место.
...Очевидно, это одно не может не отразиться на всей его деятельности. Я уже не говорю о положении в обществе и могущих быть тяжёлых для его самолюбия столкновениях и других сопряжённых с зависимым положением неприятностях, которые в громадном большинстве случаев не могут совмещаться с понятием «общественного деятеля» .
Наконец, вообразим, что человек вздумал бы держаться самостоятельно, вообразим даже, что он бы продержался. Но само дело поставлено так, что надо соображаться, не только с законом, не только с желаниями думы, но и с требованиями начальства. Помимо всякого самолюбия, польза дела этого требует. Без этого дела не будет, потому что можно натолкнуться на «vetо», иногда даже немотивированное или внушённое не касающимися непосредственно дела соображениями. Обжалование принципиально может быть и желательно, но практически никогда ни к чему не ведёт, кроме как к гибельному для дел же (уже не для одного, а для всех) антагонизму.
Необходимо оговориться: картина мной нарисованная относится к громадному большинству случаев. Но есть еще, по счастью, такие уголки, где городскому деятелю удаётся забыть и класс должности, и зависимость от отдельных лиц, и где он может думать о деле, находя, где нужно, поддержку, не рискуя никогда самолюбием и не будучи вынужден соображаться с чьими бы то ни было вкусами, Но, увы! исключения, говорят, лишь подтверждают правила.
Перейду теперь к внутреннему составу управ.
В способе составления наших городских и земских управ есть один коренной недостаток, при том настолько важный, что иногда делает службу в управе очень тяжёлой. Если управа должна представлять из себя орган всецело коллегиальный и вместе с тем чисто исполнительный, то ей непременно надо быть однородной по своему составу. Если же коллегиальность её не безусловная, то строже должны быть разделены функции каждого из её членов. Ответственность в таком случае отнюдь не должна быть распространена на всех членов одинаково. Каждый должен отвечать за своё. Трудно, чтобы дело шло гладко и работа была плодотворна без соблюдения одного из этих условий.
Поясню сказанное примером. Во Франции министерство ответственное, строго коллегиальное и однородное.
Однородное в том смысле, что список министров составляется одним лицом. Все знают, с кем будут служить и за кого будут отвечать, Крупное дело там всегда ведет президент совета. Дело Дрейфуса, вопросы об отделении церкви от государства, о конгрегациях, о подоходном налоге ведёт президент совета, несмотря на наличность министров исповеданий, военного, финансов, юстиции. Провалилось крупное дело — все уходят, все ответственны. Там отвечать за товарищей можно. Сам знал, с кем идёшь.
Другое дело в Германии. Министр назначается императором независимо от того, желают ли его иметь товарищем другие министры. Зато и отвечает он перед общественным мнением только за свою часть. Министерства нет, а есть министры, и на министре почт нимало не отражается промахи или преступление морского министра.
У нас в управах члены избираются думой и земским собранием, один независимо от другого. Иногда председателя управы или голову спрашивают, с кем он хотел бы служить. Но это делается редко и только тогда, когда особенно доверяют ему и хотят ему сделать любезность. В большинстве же случаев проходят в члены управы люди покровительствуемые той или другой партией. Иногда две или три влиятельных партии сговорятся: проведите, мол, нашего кандидата, мы проведём вашего. Понятно поэтому, что состав управы бывает самый неожиданно разнообразный. Можно ли от такой коллегии ждать всегда дружной работы? Можно ли на всех членов её возлагать всю ответственность за то, что делается в городском хозяйстве? Конечно, нет.
Между тем, послушайте разговоры в думе: «Что делала и наблюдала управа, если допустила то-то и то-то?», «Управа должна следить...» и т. д.
Гласные в большинстве случаев, когда говорят: «управа», ещё знают, кто именно из членов или служащих виноват, но публика, узнающая про городские дела из газет, этого не знает и знать не хочет. Она знает управу и больше ничего.
Теперь войдите в положение головы и членов управы. Дело решается по большинству голосов коллегией не только не единодушной, но часто нарочно так и составленной, чтобы были представители разных партий. Очевидно, что нет постоянной руководящей нити, что решения бывают случайные.
А главное, это то, что сплошь да рядом отвечает член управы за то, в чём он вовсе не виноват. Эта ответственность доходит до ответа перед судом. Ведь виновата вся коллегия! Остаётся одно: постоянно писать особые мнение, чтобы по крайней мере оградить себя от ответственности, если не перед общественным мнением (которое для некоторых совсем не нужно, а для других крайне важно), то перед судом.
А уж на особых мнениях далеко не уедешь. Всякая исполнительная коллегия вообще учреждение малоповоротливое, а уж коллегия недружная вовсе не годится как исполнительный орган. Лучшее для такой коллегии — разойтись. Очевидно, что дело такта самой думы или земского собрания подобрать подходящую коллегию. Если же собрание руководствуется другими соображениями, то надежды на успешную работу мало.
Кром головы, получающего в больших городах большое жалованье, вознаграждение членов управы почти везде крайне незначительное. При этом и относительно головы надо сделать оговорку: получает он жалованье большое не потому, что от него требуют особенно тяжёлой работы, а ради представительства.
Это злосчастное представительство, немного времени тому назад составлявшее главное достоинство предводителя дворянства, и до сих пор весьма ценится в голове крупного города.
Члену управы представительство не нужно. Ему и дают маленькое жалованье. И это явление почти повсеместное. Только два-три самых больших центра дают членам управы жалованье, более или менее соответствующее громадной работе, которая делается или, по крайней мере, должна делаться членами управы. В остальных городах они получают гроши.
Трудно объяснить причину этого явления, общего у городов с земствами. Боюсь сказать, что это происходит от опасения большинства гласных, что все равно большего толку не добьёшься и при большом вознаграждении. А это опасение происходит вот отчего: круг избирателей узок; из этого же круга только и можно избрать членов управы. При этом образовательного ценза не требуется. Где же тут сойтись на подходящем человеке? и не проще ли выдвинуть того или другого фаворита партии? На этом и основаны все выборы. Понятно, что жалеют дать большое жалованье. Совесть зазрит.
Удивительное явление! Сколько, подумаешь, нужно учёных, работящих, даровитых работников в городе или земстве!
Привлечь таких, очевидно, можно только давая хорошее вознаграждение. Ведь хороший врач, инженер, юрист везде нужны, везде найдут возможность заработать, а потому уже из-за конкуренции надо бы назначить им приличное жалованье.
Между тем заметьте, какие вопли поднимаются и в обществе, и в прессе, когда открывается какая-либо должность в управе с высоким окладом. Сейчас возникает предположение, что предложивший эту должность, будь он голова или какой-нибудь влиятельный гласный, имеет в виду какого-либо из «своих». В стремление к пользе дела никогда почти никто не верит. Так укрепилась вера в людях, что и городские места раздаются в тесном кружке «своих». Естественно, что при этом рука её поднимается голосовать за большое жалованье.
Понятно, что при таких условиях гласность далеко не проникает в управские дела столько, сколько это желательно.
Я слышал от одного головы губернского города такой отзыв о гласности: "Я их (т. е. корреспондентов) за версту от управы не пускаю. И всё-таки пронюхивают, негодяи!"
— А в думу вы их пускаете? — спросил я.
— В думу пускаю. Говорят, нельзя. Да и в думе, кроме греха, от них ничего не бывает.
Я цитировал буквально, рассчитывая, что эти строки не попадут на глаза моему собеседнику. Да и правильно гласность эту самую не пускают! Она расстроит все тайны этих управских кружков. А где тайны не будет и не будет кружков, там, несомненно, будет гласность. И это придёт само собой, гласность — друг правды и чистоты и враг неправды.
И если кто скажет, что есть дела секретные, что не всегда можно допускать гласность в управские дела, то я ему уже по опыту отвечу, что гласность никогда не вредит. Я её всюду пустил — и в бумажные дела, и в заседания управы, и в комиссии, свидетельствую, что вреда не вижу от гласности никакого. Есть у нас органы всяких направлений и далеко не все беспристрастные, но разглашений того, чего не следовало, не было (за исключением одного случая ошибки корреспондента безусловно невольной и неважной). Да при полной гласности, если бы один из её представителей злоупотребил доверием, это было бы таким невероятным нарушением гостеприимства, что на него, я уверен, никто бы не решился. Повторяю, гласность не вредит там, где ничего не скрывают!
XII. Комиссии
Закон предусматривает три рода комиссий: совещательные, исполнительные и ревизионные. Начну с исполнительных.
По закону он избираются в помощь управе. Предполагается, что управа не может справиться с разносторонним, иногда громадным делом городского хозяйства. Думаю, что организация комиссий, как она теперь существует, является результатом всё того же недоверия к третьему элементу. Я позволю себе не согласиться с делением наших хозяйственных органов на распорядительные и исполнительные. Дело в том, что ведь, в сущности, и управа, и комиссии — думские, и те и другие, состоящие из гласных не специалистов, строго говоря, не должны считаться исполнительными органами.
Возьмём училищное, строительное, медицинское дело. Кто может и должен исполнять его? Неужели не педагоги и специалисты по школьной организации, не архитекторы, не врачи?
Конечно, они, а не гласные, в лучшем случае являющиеся людьми общеобразованными, а отнюдь не специалистами. Так дело и делается. Лечат доктора, строят архитекторы, учат педагоги. Но при отсутствии к ним доверия общие вопросы, организационные, личные решают не они. Вряд ли это правильно.
Дума утверждает смету по каждому отделу и решает крупные вопросы. Следит за тем, чтобы все делалось согласно желаниям думы, объясняет деятельность разных отделов, подготавливает доклады: вот функции управы. Дума собирается изредка. Управа всегда тут и может дать нужное разъяснение, предъявить известное требование, вынести известное решение. Это маленькая постоянная дума. Но собственно исполнителями должны, конечно, являться специалисты. A то теперь при разных недочётах по специальности в больнице ли, в водопроводе ли, специалисты имеют основание жаловаться на управу или комиссию, а управа или комиссия может валить грех на специалистов, не стоящих на высоте положения.
Противоречие в самой постановке дела. Отвечает не тот, кто виноват. Фикция такова, что вольнонаёмному лицу отвечать нечем, а гласный отвечает более действительно. И вот проваливается мост или здание — и начинаются пререкания, кто виноват; причём виноватым оказывается член управы, ничего в постройках не понимающий. А чаще всего виновного вовсе не оказывается. Не лучше ли ответственность оставить на действительном исполнителе — специалисте? Или ещё лучше — на комиссии из этих специалистов?
Мне представлялась бы такая организация возможной. По каждому отделу есть совет специалистов: медицинский, архитектурный, водопроводный, училищный. Пусть этот совет будет многочисленный, пусть в него входят все служащие городу специалисты. Это даже очень желательно. Пусть каждый молодой врач, пусть каждый учитель интересуется общим ходом дела, участвует в общей работе на пользу города. Это подняло бы его энергию, обогатило бы его опыт опытом товарищей, заставило бы шире, а потому и плодотворнее посмотреть на свой невидный, хотя большой труд. Функции такого многочисленного совета могли бы, конечно, быть только совещательными. Они для рассмотрения проектов могли бы выбирать подкомиссии. Они могли бы рекомендовать и служащих на вакантные должности.
Каждое отдельное дело — постройка больницы, школы — поручается одному специалисту, а если дело крупное, то в помощь ему дается ещё несколько специалистов. Эти лица являлись бы исполнителями и отвечали бы за дело, без возможности отговариваться тем или иным распоряжением комиссии.
Все постановления совещательного совета специалистов, равно как и все вопросы, не могущие быть разрешены самостоятельно специалистами-исполнителями, идут на рассмотрение управы. Я сильно настаивал бы на единстве управы. Теперешнее же разделение труда между управой и комиссией уничтожает фактическую ответственность и той и другой, ведёт к раздорам и пререканиям, ничуть не способствуя лучшему ведению дела.
Если же состав управы признаётся не достаточным, что неизбежно в больших городах, пусть их состав усиливается по некоторым отраслям особыми избранными на это гласными.
И теперь особые председатели исполнительных комиссий участвуют на правах членов в заседаниях управы по вопросам, касающимся их специальности, Тогда по некоторым особо важным делам, например, училищным, можно бы в помощь управе выбирать несколько человек, которые бы вместе с ней (непременно вместе) составляли усиленную по данным вопросам управу.
Если, наоборот, было бы признано, что управа слишком завалена делами, что ей физически нельзя будет вникать во все подробности разных хозяйственных отраслей даже при возложении большей части дела на вольнонаёмных специалистов, то пусть с неё будет совсем снята ответственность по той или другой отрасли хозяйств; пусть, например, ну, хоть училищное дело совсем не будет входить в сферу её обязанностей, и им будет ведать особая училищная управа, или самостоятельная комиссия, которая непосредственно будет представлять доклады и отчёты в думу и ни в какие отношения с управой входить не будет, кроме разве получения денег на расходы в определённое время.
Другими словами, я вижу большой вред в том, что одна и та же отрасль городского хозяйства ведётся двумя коллегиями, причём хотя одна и является по букве закона подчинённой другой, но на практике они обе самостоятельны. Согласитесь, что для членов управы нелегко нести ответственность (я говорю про нравственную ответственность) за дело, которое ведёт комиссия!
Во всяком случае работа в исполнительной комиссии должна быть службой. Я, конечно, не требую чинов и класса должности, а подразумеваю исключительно службу общественную. Службой же я называю некоторое связанное состояние, по которому человек чувствует себя обязанным чему-либо посвящать известное время. Поэтому желательно, чтобы служба эта соединялась с жалованьем. Служащих я противополагаю добровольцам. А что как не добровольцы теперешние члены комиссий из гласных?
Гласные наши, и так служа honoris causa, имеют немало дела, посещая аккуратно все думские заседания. И эта обязанность их исполняется многими далеко неудовлетворительно; что же сказать про тех, которые берут на себя обязанность посещать заседания комиссии и исполняют эту обязанность добросовестно? Да ведь они вправе гордиться и считать свою жертву немалой. Чем богаче работник, тем, очевидно, он дороже ценит свой труд; и весьма понятным является, если гласные негодуют, когда их слишком часто беспокоят, и если многие из них неглижируют своими добровольными обязанностями.
Что сказать про комиссию «исполнительную», где сегодня явились три-четыре члена, завтра другие? Очевидно, ни знать дела основательно, ни, тем более, быть хорошим исполнительным органом такая комиссия не может.
Стоит иной раз посмотреть, как происходят выборы в члены комиссии.
Предлагает кто-либо из гласных или голова Петра Ивановича.
— Просим, просим.
Петр Иванович встаёт, благодарит за честь, но извиняется недосугом.
— Нет, нет. Просим, просим.
— Да помилуйте, я ведь занят службой: у меня своих дел масса; да и так я уже состою в двух комиссиях...
— Просим, Петр Иванович, просим...
— Да и выберете... всё равно я ходить не буду, ведь только числиться буду... я заранее говорю, — с некоторой досадой заявляет гласный.
— Ничего, Петр Иванович, потрудитесь ещё. Просим, просим. И Петр Иванович соглашается. Но какой из него выйдет член комиссии?
Надо, конечно, отдать справедливость некоторым работникам самоуправлений, работающим хоть и бесплатно, но всецело отдавшимся делу. Они ни времени, ни усилий не считают. Для них прежде всего дело. Но ведь это исключения, а на исключениях системы не строят.
Совсем другое, если человек «служит». Он смотрит на свои обязанности члена комиссии, как на основное своё занятие, не совмещает его с другими платными должностями; считает своим долгом дать побольше работы и не считает общество обязанным ему особою благодарностью за всякое посещённое им заседание комиссии. Если мы это жизненное требование сопоставим с отсутствием в думах специалистов по разным отраслям хозяйства, вследствие малочисленности дум и однообразия состава избирателей, то и придём к выводу, что чисто исполнительную роль комиссий надо передать вольнонаёмным специалистам, а часть наблюдательную и главное руководство — управе в усиленном составе.
От исполнительных комиссий перейду к совещательным. Совещательные комиссии обыкновенно выбираются только временные, для разработки какого-либо определённого вопроса. Происхождение таких комиссий понятно. Дума, имея перед собой доклад управы о каком-нибудь деле, не имеет времени в полном составе изучить этот вопрос. Или вопрос настолько специален, что не подлежит пониманию всех гласных. Вот и выбирает дума нескольких гласных, или пользующихся особым её доверием, или специалистов, для ближайшего ознакомления с вопросом и особого доклада своего мнения к одному из следующих заседаний.
Польза таких комиссий несомненна, потому что получается лишний контрольный орган, а контроль всегда и везде вещь хорошая. Есть в некоторых думах постоянные совещательные комиссии из техников, из юристов. Всякий вопрос строительный, юридический исходит через такую комиссию. Конечно, это возможно только в больших думах, где притом довольно интеллигенции.
К совещательным комиссиям относится комиссия большой важности; это — комиссия финансовая. В неё обыкновенно избираются лучшие гласные, как по своей интеллигентности, так и по знанию подробностей городского хозяйства. Таким образом, попадают в неё... прежде служившие городу члены управы и самые старые и аккуратные гласные.
В некоторых думах эта комиссия постоянная. В этом случае всякий вопрос, соединённый с денежным расходом или доходом, обязательно проходит через неё. В других думах финансовая комиссия только просматривает смету и даёт свое заключение. Желательна, конечно, первая организация.
Управа и её органы, занятые различными отделами хозяйства, не всегда смотрят на каждый вопрос со стороны общего финансового положения. Этот недостаток и призвана выполнять комиссия. Она на всякий вопрос смотрит лишь глазами финансиста, ставит все бюджетные статьи в связь между собой.
Не всегда, конечно, комиссия эта на высоте положения. Часто в неё избирают людей не с широким взглядом, a таких, в которых уверены, что они при малейшей возможности будут против нового расхода, хотя бы этот расход был вызван самой кричащей потребностью, хотя бы он был производителен и окупился бы очень скоро. К сожалению,
этот взгляд сильно распространён среди наших дум и ревностно проводится в этих случаях финансовыми комиссиями.
То же большое значение имеет комиссия, не подходящая под разряд ни исполнительных, ни совещательных. Я говорю про ревизионную комиссию, которая обязательно избирается думой по закону. Значение ревизионных комиссий могло бы быть громадным, если бы, с одной стороны, они правильно смотрели на дело, с другой — были на высоте положения.
Часто ревизующие гласные ставят себе задачу: найти злоупотребления, ошибки, промахи управы. Сейчас начинаются между ревизуемыми и ревизующими неприязненные отношения. Одни хотят насолить другим, а другие скрыть от первых всё, что возможно.
Хотя бы ревизоры и нашли что-нибудь более или менее важное, хотя бы они этим и заслужили благодарность думы, но не в том, по-моему, задача ревизионной комиссии. Польза, ею приносимая, будет несравненно больше, если гласные-ревизионеры проникнутся убеждением, что и управа и её органы, несмотря на свои промахи, хотят, по возможности, сделать дело хорошо. Став на такую точку зрения, они не будут, как сыщики, разыскивать ошибки, а будут стараться вместе с управой содействовать общему благу. Мне известны случаи, когда члены ревизионной комиссии, натолкнувшись где-нибудь на беспорядок, не спешат этот беспорядок запротоколивать, а частным образом извещают о нём голову или члена управы.
Беспорядок, конечно, немедленно устраняется. С другой стороны, часто у управы что-либо не клеится; за недостатком времени или почему-либо ещё, сама управа затрудняется определить, в чём дело. Знаю я примеры, что в таких случаях управам приходилось обращаться к ревизионным комиссиям. «Разберитесь, мол, посмотрите, в чём тут секрет». И комиссия помогает управе разобраться.
Ясно, что при таких отношениях исполнительных и ревизующих органов можно бы достигнуть блестящих результатов. К сожалению, это — исключение, и всё происходит более канцелярским образом, не говоря уже о частных случаях явного антогонизма коллегий, служащих одному и тому же общественному делу.
Само собой разумеется, что ревизовать должно не только отчёты и книги, но что ревизия должна быть фактическая. Ни одна отрасль хозяйства, ни один уголок не должен укрыться
от глаза ревизионера. Таков идеал. Но можно ли рассчитывать хоть на приближение к нему?
Ведь в ревизионную комиссию идут также неохотно. Те же упрашивания, те же отнекивания, то же полусогласие на избрание. Ждать тут особенной работы нечего. И часто всё сводится к короткому отчёту с указанием маловажных, a то и часто бухгалтерских, промахов. Когда же являются указания на более или менее серьёзные упущения, то можно быть почти уверенным, что не сама ревизия их раскрыла, a что членов комиссии что-нибудь натолкнуло: газетная статья, или донос, или просто ходящие в обществе слухи.
Это почти общий удел; и самые культурные думы редко добиваются работящей и правильно понимающей дело комиссии.
Как ни мало в общем интенсивна работа наших комиссий в сравнении с работой заграничных муниципалов, можно было бы еще кое-как помириться с их деятельностью, если бы комиссионные тяготы несли более или менее поровну все гласные думы. К сожалению, в наших, и без того малочисленных, думах много гласных не столько не хотящих, но и не могущих дать мало-мальски плодотворную работу. Поэтому интеллигентный и желающий потрудиться гласный обыкновенно числится в нескольких комиссиях, что даже при совершенном его усердии не может не отразиться на качестве их работы.
Если к этому добавить, что сплошь да рядом работает несколько человек, знающих и понимающих дело, а что решает дело большинство часто не знающее и вовсе не понимающее — становится досадно. Да не подумает читатель, что я вообще говорю против большинства! Боже меня сохрани.
XIII. Непонятное совместительство
Публика не знает ничего о ходе работы по преобразованию петербургского городского самоуправления. Не знает она и того, суждено ли преобразованию коснуться лишь столицы, или оно имеет хотя бы со временем распространиться на всю Россию. Доходили, правда, до нас отрывочные известия, но в достоверности их нельзя быть вполне убеждённым; за последнее время и такие известия прекратились. Нам остаётся только высказывать свои пожелания. Тот предмет, о котором я собираюсь говорить, не новый, даже избитый, тем не менее говорить о нём приходится.
Бывают мероприятия, которые многим кажутся давно желательными, но которые не вводятся по той или иной причине.
Таково, например, увеличение круга городских избирателей. Тем не менее всем понятны те (по-моему, неосновательные) опасения, вследствие которых требуется от избирателей высокий денежный ценз.
Но я не понимаю, и никто, вероятно, толком не объяснит, для чего нужно, чтобы городской голова был вместе с тем и председателем думы. Какая для кого от этого польза? Вред, между тем, этого совместительства громадный.
Главные функции городского головы, это — быть председателем управы или главноуправляющим. Он имеет главный надзор за исполнением думских постановлений, он заведует канцелярией, а следовательно, и составлением докладов думы, он объединяет деятельность всех членов управы, это — его главные, основные обязанности.
Затем следуют обязанности по представительству. Приезжают ли именитые путешественники, или знатные иностранцы, торжество ли какое в городе — представителем городского самоуправления является голова. Он же, в качестве защитника городских интересов, состоит членом разных присутствий.
К этим двум его функциям пристёгнута третья: председательствовать в думе.
Получается такая картина: гласный встаёт и начинает на чём свет стоит ругать управу или отдельного её члена, хотя бы самого голову; но чтобы начать речь, он у него же должен спроситься: позвольте, мол, вас поругать.
Справедливо ли говорит гласный или обвиняет управу в преступлениях, ею не совершённых, голова должен молчать, как беспристрастный председатель. Дума направляет, контролирует, ревизует управу, говорит ей подчас горькие истины, а председательствует председатель управы и должен проглатывать свою досаду и хлопать глазами.
Зачем это? Почему не сделать, как в земствах? Председательствует особое лицо, а управа сидит себе, и когда нужно возражает и даёт ответы. Это избавило бы голову от весьма тягостного двойственного положения. Да и дело бы несомненно выиграло, так как свойства, нужные для председателя управы и для председателя думы, весьма различны.
Председатель управы, если он принимает к сердцу дело, которое ему поручено, не может относиться хладнокровно к тому, как это дело будет разрешено. Как он ни старайся, если он человек мало-мальски с темпераментом, он вполне беспристрастен быть не может. Другое дело председатель собрания. Иднальный председатель собрания тот, который не только вне партии, но не причастен к самому делу. Такими выбирают на западе спикеров и других председателей. Причастным к делу я называю члена управы потому, что он сидел над ним, разрабатывал его, составил проект и убеждён в его пользе. Может ли, должен ли он относиться хладнокровно к своему детищу? Можно ли ставить ему в вину его подчас горячность? Как председателю думы — можно, как председателю управы — нельзя.
Очевидно, эти две функции, несовместимые и даже противоречащие друг другу, должны быть разъединены. Председатель собрания не должен быть председателем управы.
Выбрать Иванова в головы? Он любит городское дело, работает усердно, но он невозможен в качестве председателя — чистый кипяток, говорить не дает, подчас обрывает гласных, да, наконец, и не беспристрастен.
Или выбрать Петрова? — Прекрасный председатель! Хладнокровный, справедливый, выслушает всех спокойно, вопрос формулирует беспристрастно; не знаем даже никогда, какого он сам держится мнения. Ну, а делать дело не годится, к делу тоже относится хладнокровно, безучастно. Очевидно, ни Иванов, ни Петров не годятся.
У меня практика самоуправления большая и, признаюсь, я не встречал ещё человека, который был бы и хорошим головой, и удовлетворительным председателем.
Остается третья функция — председательство. Смею думать, что хорошего по внешности представителя городского самоуправления легче найти в хорошем председателе собрания, нежели в председателе управы. Прошли те времена, когда председательство ценилось дороже дела, когда предводители дворянства, а то и головы избирались не за деловитость, а за богатство и внешность.
А если уже это нужно для головы, то пусть это требуется от председателя думы. Он пускай и называется головой, оставим за председателем управы менее видную, но более деятельную роль.
Само собою разумеется, что должности как такого головы, так и председателя управы должны замещаться по выбору. Голова, как лицо главным образом почётное, должен быть из местных людей, а для председателя управы ценз мог бы требоваться не столько денежный, сколько умственный, чем избегнута бы была теперь часто встречающаяся аномалия — полуграмотных голов.
Сообразно с этим должность председателя управы должна бы быть платной, а должность головы — почётной.
Я, может быть, слишком увлёкся подробностями, но, во всяком случае, не могу не повторить своё пожелание, которое разделят, я думаю, все городские деятели, чтобы как можно скорее и притом не в одном Петербурге прекратилось непонятное совместительство функций председателя думы и председателя городской управы.
XIV. Городской голова
Кроме явного вреда для дела от совмещения в одном лице обязанностей председателя думы и председателя управы, — вреда, очевидно, уже сознанного правительством, отменившем это совместительство в Петербурге и непризнанного вопреки всякого здравого смысла лишь одной московской газетой — должность городского головы являет собой еще другие примеры противоречия.
Сделав в лице головы из общественного деятеля получиновника, закон, а главное практика жизни, постановили его в такое положение, что он сам часто хорошо не знает своих прав и своих обязанностей. Как бы и те и другие ни определялись законом, общественный деятель должен ещё считаться с другими факторами, для некоторых более важными, чем законом указанные рамки и отношения.
Главным таким фактором должно быть, конечно, общественное мнение. Голова, который бы захотел считаться только с мнением начальства или думы, не обращая внимания на общественное мнение, был бы чиновником в одном случае, приказчиком — в другом, но отнюдь не общественным деятелем.
Как-никак, ведь не начальству же он служит и не думе, а обществу.
Общественное мнение привыкло связывать со всяким делом какое-нибудь имя. Воплотить всякое крупное дело в человеке, хотя бы несправедливо и не по заслугам ему приписав более, чем он того стоит — свойственно людям. Когда, например, говорят про Плевну, непременно вспомнят про Скобелева, как бы забывая остальных участников плевненских неудач и успехов; когда говорят о Германии, невольно приходит на ум Бисмарк, хотя не Бисмарк создал Германию, а потребность Германии в объединении вызвала появление Бисмарка.
То же самое мы видим в жизни всяких мелких общественных единиц. Если со старожилами какого-нибудь города поговорить о крупном событии в их городской истории, или о целой эпохе в этой истории, сейчас услышите имя или губернатора, или городского головы. И то и другое очень несправедливо.
Губернатор, имея большую власть отрицательную, положительной власти в области городского благоустройства не имеет никакой. И если он что и может сделать, то только силой убеждения и установившимися с горожанами хорошими отношениями. Так в Симферополе, теперь обсаженном деревьями, с благодарностью вспоминается по этому случаю имя губернатора Лазарева. Но это исключение, в большинстве случаев имя губернатора к известной эпохе пристёгивается напрасно. Из одновременности какого-либо события и службы губернатора выводят почему-то причинную связь. Напрасная бывает благодарность, напрасно же иногда и нарекание (благодарность чаще напраснее бывает, чем нарекания, вследствие самого отрицательного характера губернаторской власти).
Ответственность перед общественным мнением за городское благоустройство губернатор разделяет часто с головой.
Вот эта-то ответственность, несправедливая по отношению к губернатору, чаще бывает ещё более несправедлива по отношению к городскому голове. Городской голова, в противоположность губернатору, никакой власти остановить что-либо не имеет, а в положительном смысле может воздействовать только путём нравственного убеждения и пользуясь в думе и управе достаточным авторитетом. Только при этом условии работа головы может быть плодотворна.
Или обычаем, или особыми, законом предусмотренными, думскими постановлениями положено, что кому делать. Определена более или менее компетенция отдельных служащих, членов управы и всей коллегии. Известно, какие дела ведаются самой думой. Закон же предоставляет городскому голове право надзора за всем. Это право надзора мне напоминает право ревизии земских начальников предводителем дворянства. Действительно, представим себе, что в какой-либо отрасли городского хозяйства что-либо неладно. Пользуясь своим правом ревизии, голова это констатирует. Что дальше? Распорядиться самолично он не может и доводит о найденном им зле до сведения или исполнительной комиссии, или управы. А если комиссия или управа не найдут в этом зла? Голова ничего сделать не может. Жаловаться по начальству? но тогда какой же это будет общественный деятель? Да и не дай Бог, чтобы голова фактически мог так влиять через начальство, ибо тогда явится также возможность зла с его стороны, как и возможность добра, и первое несомненно будет чаще иметь место, нежели второе.
Остается разногласие с управой или комиссией перенести в думу. А если и дума с головой не согласится? Тогда, очевидно, голова ничего не сделает и сделать не может. Другими словами: остановить зло голова может только с помощью коллегий, которые ведут городское хозяйство. Всё дело опять заключается в том, насколько он сумеет приобрести нравственный авторитет. Нет этого авторитета, он не может остановить никакое зло, и остается одно: уходить, конечно, если вся цель его не состоит в том, чтобы спокойно сидеть на месте, пока сидится.
Совершено то же получается, если городской голова хочет провести что-либо новое через думу. Будь его предложение в высшей степени благодетельно для города, достигнуть чего-либо может ему помочь только личный авторитет. Думы наши, по своему составу, очень боятся всякого нововведения и разницы между расходом производительным и непроизводительным часто не признают. И это относится ко всем думам, даже самым интеллигентным.
С другой стороны, думы очень субъективны (и это тоже зависит от их состава). Субъективизм же этот ведёт к тому, что часто большинство гласных меньше обращает внимания на существо предложения, нежели на то, кто его внёс. И вот популярный голова действительно всесилен (московский Алексеев), непопулярный иногда проваливает самые спасительные проекты. Ясно, что и тут всё дело в его авторитете.
Пусть не подумает читатель, что я скорблю о недостатке власти у головы! Нет, Боже сохрани! Я глубоко убеждён, что будь у наших голов много власти, они Бог знает чего бы понаделали, так что потом не легко было бы расхлебать заваренную кашу. Я только констатирую факт, что голова может быть крупной фигурой при известном нравственном авторитете и чистейшим нулем, если этого авторитета нет.
А из этого можно вывести заключение, что не всегда голову можно упрекать во всём, что творится в городе. Можно ли его всегда упрекать и в том, что он не заслужил должного авторитета? Как его заслужить, на это рецепта нет. Помимо некоторых положительных качеств, надо ещё обладать известной дозой такта, а может быть и покладистости. Не всякий имеет довольно такта; многие не умеют быть покладистыми.
Я так долго остановился на вопросе о власти головы, чтобы показать, как осторожно надо связывать некоторые события в городской жизни, а то и целые эпохи, с именем городского головы. В каждом отдельном случае надо довольно подробно и глубоко разобраться в отношениях головы и думы.
К сожалению, для общества, в широком смысле этого слова, это немыслимо и часто обвинения сыплются не по адресу виноватого. Единственно же, чего можно требовать от всякого уважающего себя головы — это уйти в соответствующий психологический момент, а иногда наоборот — бороться сколько есть сил, не создавая этого момента искусственно.
Все это я, конечно, отношу к голове, который дорожит общественным мнением. Общественное мнение почти всегда a la longue оправдывает известно изречение: vox populi — vox Dei.
И этим и объясняется, почему им надо дорожить человеку с чувством собственного достоинства. Я, конечно, говорю про общественное мнение, которое родится, а затем распространяется среди культурного общества, а не про ту часто дикую, хотя и распространённую молву, которой суждено мало-помалу вытесняться из памяти народной и являющейся лишь временно, хотя и продолжительно продуктом её невежества.
Но историю, как всеобщую, так и местную, к счастью, пишут люди культурные, создающие и общественное мнение.
Надо признаться, что городские головы у нас весьма разнообразны, вследствие тех условий, в которые поставлено городское самоуправление. Есть многие, цель службы которых ничего общего с пользой для общества не имеет. Ясно, что такие об общественном мнении не заботятся, но не о таких и речь моя идёт.
Когда речь идет о городском голове, или об управе, или о думе, трудно останавливаться на мелочах, трудно указывать на те или другие недостатки закона или практики, когда ложно всё основание нашего законодательства. Что же делать, когда доверие заслужили наименее того стоящие классы? Будь наше самоуправление вверено обывателям, и голова был бы всегда обывательский. Не виновата дума, что она домовладельческо-торговая, не виноват голова, что он — либо домовладелец, либо купец.
XV. Смета
Редкий город в России, начиная со столиц и кончая уездным городишком с упрощённым самоуправлением, не жалуется на недостаток денег. И если вы посмотрите отчёт, то, действительно, редкий год сводится без дефицита, редкая смета обходится без дутых цифр.
В земских сметах дело делается проще; расход выводится, как угодно собранию, а затем сумма, за вычетом незначительных поступлений с промышленных заведений, делится на число удобных десятин. И баланс готов. Теперь эта процедура несколько усложнилась с ограничением обложения.
В городах дело мудрёнее. Не норма обложения имущественной единицы подчиняется итогу, а итог должен приноровиться к существующему обложению. Положим, доходов ожидается столько-то. Итог подведён. Надо и итог расходов подвести под эту цифру. Ни на копейку больше. Иначе баланс не сведётся и вся смета не может получить должного утверждения. А между тем потребности растут неимоверно; там больных некуда класть, там рожают на улице, там на сто желающих учиться места хватает двадцати. Подсчитает управа потребности, сравнит с доходами и окажется, что доходы куда меньше расходов.
Прежде всего, пробуют, конечно, увеличить доходы. Но это не так-то легко сделать. Все доходы определены думой, а отменить данных бухгалтерии нельзя. Приходится выдумывать новые налоги. Но большей частью это или невозможно, когда всё уже использовано, а оценочный сбор на дома дошёл до узаконенных 10 проц,, или встречает безусловное сопротивление домовладельческой думы, как, например, когда недошедший до 10 проц. оценочный сбор предлагают довести до максимальной нормы, или не имеет никакого значения, когда новый какой-нибудь налог на собак, кошек или велосипеды может дать лишь жалкие гроши.
Обращаются тогда ко второму средству: урезать расходы.
Начинают находить, что расходы, прежде казавшиеся, безусловно, необходимыми, как открытие лишней школы или замощение новой улицы, не так уже неизбежны, что можно потерпеть годик, другой. И ну уменьшать расходы! При этом все отлично знают, что и год, и два тому назад эти же самые расходы были так же настоятельно необходимы, как и теперь, и, увы! будут так же мало исполнимы через год, другой, как они не исполнимы теперь. И откладывается расход, иногда кричащий, иногда производительный настолько, что покрылся бы в два-три года, оставивши затем чистый доход. Сокративши расход, сколько возможно, управа с ужасом замечает, что расходы всё-таки больше доходов. Как быть дальше? Не остаётся другого средства, как только взмылить некоторые статьи дохода. Прекрасно сознают, что по данной статье доходы не могут дойти до известной цифры, а всё-таки пишут: надо же смету свести.
Поступает смета на рассмотрение финансовой комиссии, которая каждый раз, приступая к смете, решает дутых цифр не допускать. Поэтому все маленькие натяжки, допущенные управой, прежде всего исправляются. Принимается решение, действуя начистоту, как-никак урезать еще расходы. А так как всё уж и без того урезано больше, чем можно, то урезывают то, чего нельзя. И удивительная вещь! Не думают об уменьшении жалованья головы, члена управы или другого крупного служащего, а бросаются урезывать гроши самых маленьких служащих: сторожей, метелыциков и других. Сейчас начинается разговор о спросе и предложении. «Зачем платить двадцать рублей конюху, когда я вам сколько угодно доставлю их по пятнадцати» — говорит вам почтенный состоятельный гласный. И напрасен довод, что ведь и конюха желательно иметь прочного, дорожащего своим местом, честного.
Этот довод, действующий, когда дело идёт об интеллигентном служащем, почему-то не действует, когда дело идёт о работнике. Точно работник не нужен трезвый, честный, грамотный! И это явление повсеместное! Все сокращения начинаются с маленьких людей! Фатальная, плохо объяснимая ошибка!
Но с маленьких много не урежешь. Так и тут. Несмотря на все старания, пропасть не заполнена. Снова взмыливается смета доходов; концы с концами сведены.
В думе снова поднимается желание сократить, свести хорошую смету, не предвещающую дефицитов и опять ограничивается незначительными урезками.
Наконец, всякими правдами и неправдами баланс сведён.
Смета готова.
Закон назначает сроки для рассмотрения сметы, но сметы часто, несмотря на это, запаздывают, причём как составляющие первоначально смету начальники отдельных частей, так и члены управы, и вся управская коллегия, и финансовая комиссия, и дума — все понемногу бывают виноваты в этой затяжке. Уж больно много инстанций, при том коллегиальных! Тяжела городская машина! Способов рассмотрения думой сметы несколько. Обыкновенно обсуждаются только те статьи, по которым рассматриваемая смета отличается от предыдущей. При желании сократить прения можно ограничиваться рассмотрением только тех параграфов, по которым произошло разногласие между управой и финансовой комиссией.
Насколько я знаю, почти везде финансовая комиссия рассматривает смету независимо от управы, после неё. Разногласия поэтому бывают очень многочисленны, да и комиссия, имея перед собой только одни цифири, часто не знает какими мотивами управа руководствовалась, ставя ту или иную сумму. Не зная мотивов, комиссия часто вносит разногласие там, где она согласилась бы с управой, выслушай она её объяснения.
Я бы для сокращения времени и для уменьшения разногласий предложил следующий способ составления смет. Когда отдельные сметы, рассмотренные каждым членом управы порознь, поступают к голове или в бухгалтерию, смотря по тому, кто руководит делом, заседания обеих коллегий, управской и финансовой, назначаются соединённые. Я вообще против недоверчивого отношения двух органов самоуправления к другим. Между тем и при составлении сметы замечается не то недоверие финансовой комиссий к управе, не то желание в отдельных заседаниях освободиться от возможного влияния управы. Забывают, что влиять будет управа, потому что, ближе стоя к делу, она лучше его знает. При таком совместном рассмотрении сметы и при обоюдных уступках, пункты, по которым управа и комиссия (предполагается, что обе голосуют отдельно) окончательно не споются, очевидно, и должны быть рассмотрены подробно думой, которая и имеет высказаться окончательно. Во всём остальном согласие управы и такой всегда авторитетной комиссии, как финансовая, достаточно гарантирует как обоснованность, так и обдуманность цифр.
Много времени, много бесполезного труда сократил бы такой способ работы.
А главное, что надо помнить составителям сметы, это — желательность продуктивных расходов. Сколько раз излишняя скупость гласных, сокращавших ремонт, приводила к гибели целых зданий! Сколько раз отсутствие, положим, статистики, раскрывающей глаза на то или другое явление в городском хозяйстве, вело к непроизводительным расходам или неправильным, по отсутствию достаточной мотивировки, оценкам.
К сожалению, наши думы постоянно впадают в этот грех, в особенности, сокращая на жалованьи служащих. При миллионном бюджете иногда выгодно израсходовать лишних тысяч пятьдесят, если этим путём можно улучшить состав служащих.
Надо помнить, что из миллиона иногда сто, иногда двести тысяч, а то и более теряются совсем зря, если персонал не на высоте положения. Не скупясь на персонал, вы на израсходованные пятьдесят тысяч можете получить 200, 400, а то и более процентов! Вот одна часть сметы, которая всегда вызывает невольное сожаление составителя. Это так называемые обязательные расходы, доходящие иногда до весьма значительной части бюджета. Главные два пункта обязательных расходов, это — полиция и войска. Что в особенности досадно, это неравномерность этого обложения в разных городах. В некоторых войск почти-что нет, и вот мы видим большой город, тратящий на войско гроши. Рядом мы имеем другой меньший город с большим гарнизоном; такой город и несёт большую обязательную повинность на войска.
То же самое и с полицией. Участие городов в расходах на полицию весьма различно, смотря по городу.
Есть города ничего от казны на полицию не получающие, a есть города, приплачивающие к расходам казны на этот предмет только незначительный процент. Складывалось это исторически. Думаю, что я не ошибусь, сказав, что степень участия города в этих расходах прямо пропорциональна быстроте его роста. Старинный город, не развивающийся или мало прогрессирующий за последнее время, обыкновенно мало расходует на полицию.
Как платила казна в старину, так платит и теперь, а на город возлагаются эти тяготы только при увеличении содержания полицейских чинов.
Наоборот, город молодой или быстро растущий вынужден чуть не всю тяжесть этих расходов нести на себе. Такой город всегда имеет репутацию богатого и обзаводиться полицияй ему приходится вновь. А теперь казна хотя и требует усиленно увеличения полицейских штатов, но по возможности старается расходы возложить на города.
XVI. Оценки
Большую роль в городской жизни играет оценка разных недвижимых имуществ, земли и строений. Каждый новый дом или каждый перестроенный старый дом должен непременно быть оценён, чтобы с него мог быть взимаем оценочный сбор — главный, прямой налог в городах.
Оценке же подлежат земли городские, подлежащие по той или другой причине отчуждению в частные руки, а также городские и частные недвижимые имущества, когда предстоит городу по поводу этих построек входить в договорные отношения с частным лицом, как, например, при найме городом частного помещения или, наоборот, при сдаче частному лицу городского имущества.
Работы, во всяком случае, много и притом такой, что её надо сделать во что бы то ни стало. Не соберется другая какая-нибудь комиссия, беда поправимая: может, если время не терпит, распорядиться управа. Но работа оценочной комиссии должна быть исполнена никем иным, как ей самой. Поэтому, найти вполне подходящих членов оценочной комиссии — дело обычно нелёгкое. Эта комиссия по большей части бывает платная. Задержка в её работ очень чувствительно отзывается как на ходе городских работ вообще, так и на поступлениях оценочного сбора в частности. Тут широкий простор для проявления столь нежелательных поблажек и снисхождений. Если комиссия служит верной представительницей большинства думы, то обыкновенно её оценки и утверждаются без изменения. При послаблениях тому или другому лицу комиссия может тоже в этих случаях надеяться на согласие думы.
А хуже всего, что поблажки делаются не какому-нибудь бедному человеку, живущему в лачуге, а влиятельному человеку, могущему, при случае, быть в свою очередь полезным своим товарищам.
Да и помимо всяких преднамеренных отступлений от правды, часто бывают ошибки в оценках комиссии и думы. Просто покажется, что почему-либо дом малодоходен и неудобен.
И оценят его низко. А этот-то дом и приносит громадный доход. Но это ускользнуло от внимания оценщиков.
Поэтому желательно, чтобы по мере возможности оценка была основана на незыблемых данных. Если бы такие данные были прочно установлены, с достаточной подробностью и
меньше всего основаны на словесных показаниях самого домовладельца или городского контрагента, то тогда и оценщикам было бы мало простора увеличивать или уменьшать свою оценку; к сожалению, в очень многих городах оценка делается просто на глаз.
Во избежание часто происходящих от этого ошибок, хотя бы и невольных, и должны быть установлены оценочные нормы.
Выработать обоснованные нормы и есть одна из главных задач городской статистики. Правильное и очень подробное описание построек в связи с размещением в них жилых помещений и мастерских, описание, сделанное при переписи или отдельно (отдельно, пожалуй, и лучше, так как поспешности уж очень большой не требуется и спокойная статистическая работа куда лучше спешной), только такое описание и может дать действительно обоснованные, справедливые оценочные нормы.
Имея такие данные, которые могут быть точно определены для всякой недвижимости, как часть города, величина постройки, качество её, материал, из которого построена, число квартир, окон, можно с некоторой точностью определить и влияние всех этих данных на цену имущества. Но есть и такой фактор, который ускользает от внимания статистики, и который служит предметом спора, должен ли он или нет влиять на оценку имущества.
Я говорю о роскоши помещения. Сравним для примера две квартиры. Обе в одинаково хорошей части города. Обе одинакового размера, одна построена для большой семьи с соблюдением всех правил гигиены. Большой зал для детских игр, большая столовая, где собирается семья. Отделка самая простая, без драпировок, без обоев, согласно правилам санитарии.
В другой квартире живёт одинокий человек и занимает её не ради удобства или гигиены, a по привычке и любви к роскоши. Лепные работы, позолота, фрески знаменитых художников на стенах и потолках, венецианские стёкла, зимние сады.
Спрашиваю: должны ли квартиры эти цениться одинаково? Первая может быть оценена по нормам.
Да, наконец, цена квартиры известна. Не находится наниматель на всю квартиру, разделил ее на две, ну, сдал часть. А что сделать с квартирой богача? Её и пересдать-то нельзя, ни по частям, ни целиком; ведь один потолок, расписанный Маковским, стоит дороже всей квартирной платы. На этом основываясь, некоторые говорят, что дорогая квартира должна
цениться даже дешевле первой. Другие, желая быть совсем беспристрастными, говорят, что об квартиры должны цениться одинаково. Я позволю себе не согласиться ни с теми, ни с другими. Я думаю, что город имеет право облагать роскошь квартиры. Один дом стоит миллион, другой рядом и той же величины — сто тысяч. Тот самый факт, что миллионный дом по своей роскоши не найдёт квартиранта, говорит за то, что обладатель его имеет состояние, выходящее из ряда вон, и что ему высшее обложение нисколько не будет в тягость.
Он его даже и не заметит. А если и заметит, то для него это будет лишь вопрос принципа.
Теперь спрашиваю: в праве ли город, т. е. общество, брать лишнее (вполне обоснованно) с тех, кто этого и не почувствует? Я думаю, не только может, но и должен. Облагая конуру нищего и извлекая из его скудного бюджета копейку, которая пошла бы на хлеб его детям, мы думаем, что творим законное и одну мерку прикладываем к этой конуре и к дворцу миллионера. Обложить же роскошь этого дворца мы считаем несправедливым. Всё боимся обидеть сильного, a слабый-то уже и так привык к обидам. Одной больше, одной меньше. Не беда! Думаю, что такой расчёт несправедлив. Величина обложения земли земством не определена. Последнее время фиксировано только ежегодное увеличение обложения. В городах же закон прямо установил максимум обложения. Больше 10 процентов доходности домов город брать не может. У меня нет под рукой сведений, много ли городов дошли до высшей нормы и много ли ещё не дошли. Знаю только, что каждый может назвать примеры того и другого.
Правительство очень сообразуется с тем, дошел ли город до нормы или нет.
Постоянно города обращаются к правительству с денежными ходатайствами. Просят или разрешить новое обложение, или снять с города и перенести на казну некоторые обязательные для города расходы, или принять денежное участие в новых городских предприятиях. В этих случаях первый вопрос, который вам предлагается всеми, к кому вы обращаетесь, такой: а до предельного обложения дошли? Если дошли, то будут продолжать разговор, если нет, то и говорить с вами не будут, « прежде используйте свои местные средства, а потом уже просите помощи у казны».
Но есть другой способ достигнуть предельного десятипроцентного обложения, сохраняя, вместе с тем, небольшие по сумме платежи оценочного сбора. Этот способ состоит в искусственно низкой оценке недвижимостей, Выработаны такие нормы, что продажные цены домов в несколько раз выше городской их оценки. Последствия такой оценки весьма нежелательны: уменьшение городского бюджета против того, что могло бы быть без излишнего обременения домовладельцев, и искусственное ограничение и без того узкого кружка избирателей и гласных.
И за способом оценки имущества следит казна, и если замечают, что хотя максимум обложения уже и введён, но оценка искусственно понижена, то на ходатайства об увеличении денежных расходов казны на города получается такой ответ: «Сделайте переоценку имуществ, тогда поговорим».
И тому и другому доводу лиц, стоящих на страж казённых [интересов, нельзя отказать в справедливости, хотя первый может быть всегда приведён безошибочно, а второй может повести и к нежелательным последствием. Иногда действительно кажется, что оценка низка, а попробуйте сделать переоценку и результаты получатся обратные; окажется, что прежняя оценка была выше новой.
Общий закон последних десятилетий таков, что деревня старается переселяться, по мере возможности, в города. Города растут непомерно и неудержимо. Я, конечно, имею в виду лишь большие города. Маленькие, которые отличаются от села только присутствием исправника, управы и казначейства, наоборот, теряют своё значение и так же, как и деревни, беднеют, уступая людей и богатства торговым центрам, хотя бы они носили скромное название слободы или посёлка.
А раз города растут, естественно, что дорожают земли и дома, и понятно общее правило, что переоценка должна производиться чаще. В общем, конечно, города получат увеличение доходов. Но иногда можно и ошибиться. Бывают местные, совершенно случайные, частные кризисы, которые в известном городе задерживают его развитие. Сделайте в такое время переоценку, и — кроме убытка ничего не получите.
Где же основания к переоценке? Заявления гласных-домовладельцев часто бывают слишком пристрастны. Растут преимущественно цены в центральных частях городов, где гласные преимущественно и живут. Очевидно, переоценка, прежде всего, отзовётся на карманах более состоятельных домовладельцев. Естественно им её не желать. Нельзя решать переоценку потому, что настоящая оценка «кажется» низкой.
Тут-то мы опять можем обратиться к статистике, столь преданному нам другу, которого мы так часто забываем.
Вопрос о переоценке решается статистикой безошибочно. Из самих показаний домовладельцев можно вывести правильное заключение. Хотя бы домовладельцы и искажали часто истину преднамеренно, но противоречие их показаний с объективными данными статистического описания ясно покажут, в чём эти показания отступают от действительности.
Статистика определённо, массой фактов скажет нам, хороша существующая оценка или нет, в какую сторону грешит и насколько. Статистика (конечно, правильная и беспристрастная, внепартийная) заговорит таким убедительным языком, что никому нельзя будет идти против очевидности.
К сожалению, не всегда обращаются к статистике, не всегда и знают про её существование.
XVII. Статистика
Один из больших недостатков ведения нашего городского хозяйства, в громадном большинстве случаев, полное незнание положения. У всех составились в каждом городе известные представления, что город растёт, процветает, или что он, наоборот, в росте остановился, или регрессирует. Все говорят: у нас кризис торговый, или домовладельческий, или рабочий, или прислуги. Спорят о необходимости открыть новую школу не там, а здесь, почтовое отделение на такой-то улице, лишнюю водоразборную будку именно на такой-то площади. Другие находят, что открыть школу, почтовое отделение и водоразборную будку надо, но только в других местах; третьи же говорят, что эти новые учреждения в данную минуту вовсе не нужны и не окупятся. Вопрос решается, конечно, большинством голосов, но и большинство, если его спросить, очень затруднилось бы ответить, почему оно вынесло это, а не другое решение. Кажется, что так лучше, так они и делают. А потом легко может оказаться, что правы были не они, а меньшинство.
Всякий поймёт, что прежде чем делать, надо убедиться, что это нужно. А для этого мало думать, что так нужно; надо знать это и уметь доказать с цифрами в руках. А для того, чтобы знать, надо изучать.
Вот это изучение данного положения и составляет предмет статистики. Очень мало, к сожалению, городов, у которых есть статистическое бюро, хотя это первое, чем им бы следовало обзавестись, по введении городового положения. Статистическое исследование сопровождает всякое крупное и хорошо поставленное дело.
Совет съезда нефтепромышленников в Баку обзаводится статистическим бюро, посылает особых статистиков для изучения потребления нефтяных продуктов на местах, издаёт статистические сборники.
Хорошо организованное общество транспортирования товаров, прежде чем заводить сношение с краем и посылать туда своих агентов, считает долгом вперёд изучить край статистически.
Железнодорожное общество не приступит к постройке новой ветки, не убедившись в её полезности статистическим исследованием.
Земства с самого начала поняли важность статистических исследований и приступили к делу энергично. К сожалению, в самом земстве оказались сильные течения, которым свет правды был очень неприятен. В Рязани, например, данные статистики оказались настолько хорошими, что постановлено было их сжечь. Я говорю, что они оказались хорошими потому, что если бы их сочли плохими, несоответствующими истине, то выбросили бы, употребили бы на обёртку. А тут сожгли! Я замечал, что когда люди прибегают к лечению огнём (Гус, Галилей, Орлеанская Дева), они имеют дело с опасным, сильным, великим противником. По аналогии надо думать, что очень уж сильна и добра была рязанская статистика, если её сочли нужным сжечь!
Не потому статистика не вводится в наших думах, что её боятся. Нет! А просто потому, что не верят в неё; жили, мол, и без статистики, да ещё богаче были, чем теперь. A где что построить, мы и так видим.
Понятно, что при таких рассуждениях и делается Бог знает что.
Статистика, правильно введённая, должна во всякое время дать ответ на предлагаемый вопрос. Она должна не только сфотографировать данную картину и запечатлеть какой-нибудь момент, она постоянно должна отражать и ход дела, как синематограф. Мы должны иметь не неподвижную картину, a движущуюся.
Статистика должна дать и географию, и историю города. Но история, чтобы быть ясно понятой, должна начаться с описания начального положения. С другой стороны, и описание начального положения скоро устареет и будет сохранять лишь архивный интерес, если за ним не будет следовать история, т. е. не будут отмечаться постепенно все происходящие в картине изменения.
Соответственно с этим и работа статистического бюро должна быть двойная. Сначала она должна дать экономически-географическую картину. Это делается переписью. Затем идёт историческое развитие этой картины. Это есть текущая статистика.
Перепись без статистики имеет лишь минутный интерес. И статистика без переписи не даёт ясной картины, как история без начала. Ясно, что, заводя у себя статистику, городу надлежит начать её с переписи.
Перепись считают роскошью больших городов. Петербург, Москва, Одесса — вот вам города, удостоившиеся переписи. Как будто и маленькому городу не надо знать своего положения. В маленьком городе и перепись была бы легче и дешевле.
Перепись должна обнимать по возможности все вопросы, которые могут представиться и дать исходную точку для всех разветвлений текущей статистики. Всё сводится к двум исследованиям: людей и недвижимых построек. С большей или меньшей подробностью приходится останавливаться на тех вопросах, которые наиболее интересуют данную местность. Баку должен преимущественно исследовать промыслы и заводы, Астрахань — рыбное дело.
Хотя перепись и называется однодневной, но даже наиболее сконцентрированная часть её, перепись личная, и та продолжается более одного дня. Перепись же земельных участков и строений берёт довольно много времени и делается заранее. Ещё больше времени берёт разработка статистических данных после переписи. Всё вместе взятое требует, конечно, довольно значительных средств.
Но первая же избегнутая ошибка, первый правильно, благодаря переписи, решённый вопрос — и вот вам деньги, затраченные на перепись, вернулись с избытком. Никогда ни одна копейка, израсходованная на статистику, не вернётся прямо. Дохода по графе статистики нет. Но нет и той отрасли расходов городских, на которых благотворно бы не отразилась статистика. Если не уменьшение сметы (это невозможно), то, по крайней мере, улучшение во всех отраслях хозяйства неизбежный результат статистики. К сожалению, больше смотрят у нас на итоги сметы, больше ищут непосредственно уменьшения расходов и увеличения доходов, чем улучшения хозяйства. Поэтому жалеют деньги на самый производительный расход, a потом упрекают управу и другие органы самоуправления, что тот или другой доклад плохо составлен, тот или другой проект оказался неудачным. Да и то сказать: часто ли управы ищут иметь статистические бюро? Кажется, не часто.
Каждой отрасли хозяйства должна соответствовать особая статистическая работа. Санитария и больничное дело требуют большого напряжения статистического бюро. Много работы должно быть положено и в школьную статистику. Составитель проекта водопровода или канализации опять обращается к статистике. Ему нужно знать густоту населения каждого уголка города, его состоятельность, его промышленную деятельность, потому что без этих сведений он не будет знать ни количества потребной воды, ни величины потребных отводных каналов. Нужно ли мост провести из одной половины города в другую — и тут, чтобы указать, где его выгоднее строить, надо обратиться к статистике передвижения и торговли.
Громадная ошибка людей, имеющих в кармане диплом или иные права, и поэтому только считающих себя интеллигентами, думать, что статистика не наука. Кто не слыхалетакого мнения, да притом от людей, по своему положению имеющих голос.
Что , мол, это за наука? Ну, положим, нам надо собрать сведения, что мне нужно, я ведь знаю, не правда ли? Составить таблички с вопросными пунктами, кажется, не хитрость? А уж ходить по домам, да заполнять эти таблички всякий грамотный солдат может, не то что фельдфебель!
И что же? Ведь такие мнения довольно распространены и находят последователей.
Но как ни гонят несчастную профессиональную статистику, а совсем её выгнать всё-таки, к сожалению для этих господ, не приходится. И недавно громадные оценочные работы в земстве подняли на ноги старых статистиков. И что же! Где нет статистиков—нет и оценочных работ! Видно, на фельдфебелях не уедешь!
К сожалению, восстают против научной статистики исключительно люди, или преднамеренно её отвергающие, боясь света истины, или никогда лично с ней не соприкасавшиеся. Но чтобы быть статистиком, нужна не только научная подготовка, но нужны ещё два очень важных фактора. Это — практика и интеллигентность. К сожалению, ни того, ни другого нет у фельдфебеля. А практика нужна настолько, что образовались разные специалисты по статистике. Есть статистики земские, хорошие для деревни, но не подходящие для города. Есть практики городской переписи, не имеющие опыта, нужного для деревни.
А что интеллигентность нужна, видно уже из одного того, что интеллигентный статистик, когда его в дверь гонят, влетает в окно! Ведь при всём старании, с каким их выкуривают отовсюду, должны бы они рассыпаться. Но нет: с интеллигентным статистиком умирает сама статистика.
Как-никак, если она и не умирает, но что ей бедной, а с ней вместе и бедному хозяйству наших сёл и городов плохо приходится — в этом сомневаться трудно. Сходят со сцены и остаются за кулисами лучшие силы и поневоле приходится довольствоваться снятым молоком. Сливки очень редки стали. Точь в точь как в больших городах.
Конечно, если бы и города и земства теперь обратились к статистике, то потребность в хороших работниках вряд ли была удовлетворена. Но вряд ли эта опасность нам особенно
сильно угрожает. Утешением может служить свойство статистики привлекать интеллигентных работников и привязывать их к себе. Есть фанатики статистики более, чем других отраслей умственного труда. И надо думать, что когда настанет для статистики время, где она будет в большом фаворе — найдутся и работники, достойные этой обширной и благодарной задачи. Первые шаги, может быть, будут не совсем уверенные, могут быть и ошибки, но нет сомнения, что снова сформируются кадры, соответственные потребности. Не совпадает ли этот момент с началом истинно-культурного процветания наших городов?
XVIII. Канцелярия
Всякий начальник отдельной части, вступающий в отправление своих обязанностей, непременно задаётся мыслью сократить канцелярскую переписку, но редкому это удаётся. Канцелярии у нас растут не по дням, a по часам, а с ними плодятся дела. И увеличиваются канцелярии не только в казённых учреждениях, но и в общественных.
У нас принято ругать, на чем свет стоит, канцелярщину, подразумевая под этим словом чуть не всю бюрократическую организацию с её волокитой, отписками, неправдами, притеснениями слабых. А зло канцелярщины видят именно в количестве дел, бумаг и переписки.
Бюрократическое дело не может делаться без канцелярии, т. е. чиновников, пишущих бумаги, и вот зло бюрократии переносят на канцеляристов и их писания. Выходит как с собакой, кусающей кнут вместо бьющей её руки.
Действительно, возьмите вы наилиберальнейшую Англию и посмотрите на десятки лет в одной канцелярии строчащих клерков. Обернитесь к демократической Франции и там увидите согнувшиеся спины строчащих чиновников, получивших даже прозвание «ronds de cuir» (кожаных кругов) по аналогии с часто употребляемыми ими предметами для сидения, предохраняющими их от последствий долгого сидения.
Наконец, забудьте Англию с Францией и посмотрите на наши банки, акционерные общества, торговые предприятия. Какая громадная переписка и какая аккуратность в ответах, в составлении счетов! Находят же ведь и частные предприятия нужным и выгодным иметь канцелярии и переписки!
Наоборот, за границей аккуратность в переписке гораздо более развита, чем у нас. Там любой деловой человек немедленно отвечает за №-ом, оставив себе черновую. Мы же часто отвечаем через два — три месяца, числа на письме не выставим, а то и вовсе не отвечаем, если письмо где-нибудь заваляется.
Наоборот, настоящая канцелярщина, заключающаяся в ведении многих книг, входящих, исходящих, в составлении большого числа списков — эта канцелярщина неизбежная, у нас скорее недостаточна. И если вы возьмёте самую заражённую старыми пороками канцелярию, то окажется, что пишется в ней или мало, или плохо.
Не в писании и не в писцах зло, а в другом!
Чем можно заменить бумагу? словесными переговорами? Но для этого нужны или дружеские отношения, полные доверия, или начальническая непогрешимость, в случае конфликта. На доверии ни государственного, ни общественного дела вести нельзя , потому что всякая копейка, всякая малейшая частичка прав обывателя должна быть гарантирована полнейшей возможностью проконтролировать действие служащих от высших и до низших.
Тут нет места доверию бесконтрольному, т. е. основанному на словах. Да и мыслимо ли, чтобы в учреждении или ведомстве с сотнями и тысячами служащих всё было основано на доверии? Ведь всякому доверять нельзя.
В частном деле, где нет хорошо поставленной письменной части, как в наших старых купеческих фирмах, там дело основано не на доверии, а на единовластии хозяина.
Он словесно приказал и если не исполнено, то — вон приказчика, служащего или рабочего.
Со мной лично бывало не раз как будто дам служащему что-либо написать или сделать. Он не сделал. Спрашиваешь его — почему? Он отвечает, что я не приказал и ручается за это. Служащий заслуживает доверия. А может, и вправду я не приказал, — подумал, а не исполнил. Что тогда? A по-простому, взял да прогнал служащего или обругал. А за что? Он не виноват!
Но если это допускает деревенский купец со своими молодцами, то так не может быть построено здание служебной иерархии, не только правительственной, но и общественной, скажу больше, и частной, дорожащей своей репутацией фирмы.
Наоборот, меня возмущает, что принцип единовластия в определении и увольнении рабочих и низших служащих до сих пор держится во всевозможных учреждениях. Если более высшие служащие и гарантированы, поскольку возможно, от произвола начальства, то самые низшие вовсе нет. А это великое зло.
А что произвол усиливается с уменьшением письменных сношений, это, кажется, ясно.
Мне скажут: произвол и теперь есть, хотя бумаги много. Да, но это не от бумаги, а вопреки бумаге. Мало ещё писать бумаги, надо, во-первых, писать их хорошо, а во-вторых, при расследовании дела надо с ней справляться, надо быть обязанным с ней справляться. А для этого есть уже известное средство: надо, чтобы бумаги эти и действие начальства были публичны, гласны.
Тогда, поверьте, бумага будет не зло, а добро. И все входящие, исходящие журналы, реестры, наряды, дела, списки, алфавиты, архивы, — всё это будет служить уяснению правды и обузданию произвола.
А мы недовольны, и ну ругать писца, да еще перо, которым он пишет, и бумагу, на которой пишет. А между тем, и писец, и ручка, и бумага тут ровно ни при чём.
Говорю это по глубокому убеждению, и если бы читатель меня хоть немного знал, то он поверил бы, что говорю я это не по рутинерству.
Ведь заметьте, если где большие злоупотребления и дурные дела и приезжает честный и энергичный начальник — первое, что он учредит, это — журнал, где бы всё записывалось, что делается обвиняемыми в злоупотреблениях; первое место, куда он бросится для расследования, это — канцелярия с её бумагами.
Нет, господа, бумагу и бумаги не вините, наоборот — пожелайте, чтобы действия наши больше согласовались с бумагами. Тогда уменьшится великое наше зло — произвол.
А всё-таки канцелярщину ругают. Так попробуем поискать, может быть, и найдём причину зла настоящего.
Канцеляристы мастера отписываться, — это так. Ну, скажем правду, кое-где взятки берут. Тоже верно. Ложь они часто выдают за правду, а правду за ложь. Кто и что в этом виноваты?
А виноват взгляд на канцеляриста, как на низшего служащего. Возьмите правительственное место. Иной старый делопроизводитель, увешанный орденами, посмотрите, как он кланяется начальнику и как пренебрежительно подаёт ему чуть не два пальца причисленный из привилегированных — вот где зло!
Посмотрите, как вся канцелярия при проходе начальства нарочно шумит стульями, чтобы он заметил их почтительное вставанье и как он бранит не вставшего или плохо вставшего. — Вот оно зло-то великое.
Оно не в канцелярии, не в канцеляристе, а в нас. Молодого привилегированного чиновника мы выслушиваем, обращаемся с ним хорошо, знакомимся с ним домами, а канцеляриста даже не сажаем, когда он нам докладывает. Я барин, и молодой причисленный — барин, а тот? тот канцелярист из писцов.
Совсем другая была бы картина, если бы в канцелярии была поднята интеллигентность служащих. А интеллигентность не только развивается ученьем и воспитаньем, а всей жизнью. Если мы, начальники, будем обращаться с канцеляристами как люди с людьми, как равный с равным (это ни капельки не исключает даже служебную строгость), тогда, поверьте, он вам будет говорить правду, близко стоя к бумаге и лучше её зная, часто вам даст хороший совет, a под старость будет сознательной частью государственного или общественного механизма, а не кланяющейся фигурой. Если вы со мной обращаетесь не как с человеком, а как с рабом, то почему мне и взятки не взять? Будь я хоть расчестный, я все-таки чёрной кости, а вы белой, так уж мне и взятка к лицу.
Вот как сознательно или бессознательно рассуждает этот человек. И он прав, и я его взятку извиняю.
Но и здесь виновата не канцелярия, а мы. Мы требуем формы в бумаге, а не сути. Я знал начальника, который следил, например, за следующим: чтобы если бумага пишется равному ему, то чтобы писали «господину» полностью, а если подчинённому, то чтобы писалось одно «Г.» И в случае ошибки бумага переписывалась с должным внушением написавшему.
Вот где кроется канцелярский разврат, а публика негодует на само учреждение! Считаю это все уместным говорить теперь, потому что это, относясь ко всем канцеляриям, к сожалению, подходит и к канцеляриям общественных учреждений. Я знал учёных и гуманных врачей, высокообразованных, талантливых, душевных архитекторов... и они на канцеляриста смотрели как на низшую породу. Не скоро выводится зло, веками накопившееся!
В канцеляриях многих принято назначать работу и утром и вечером. Утром работают обыкновенно часов шесть, a вечером изволь непременно прийти и просидеть еще часа два-три. В этих случаях должны приходить чиновники и тогда, когда дела нет. Этого требует порядок. Сиди... На то и жалованье получаешь. А я, я, начальник, могу прийти часами тремя позже тебя и уйти раньше, просидев и проболтав часа два. А вечером я свободен и играю в винт, отдыхая от тяжёлой работы. Ведь всё на мне лежит.
Восьмичасовой труд, хороший для труда физического, никуда не годится для труда умственного. Это непосильно. Растягиваясь во времени, труд теряет свою доброкачественность.
Я глубоко убеждён, что пятичасовой труд не менее производителен, чем 8-часовой. Да, наконец, за 25—50 рублей в месяц жестоко, мне кажется, отнять у человека всякую возможность жить для себя. А вечерняя работа действительно совсем человека отрывает от семьи.
Я бы позволил себе рекомендовать нашим общественным учреждениям пятичасовой труд для канцелярий с послаблением ещё, если возможно, летом и с отпусками. Я уверен, что они усерднее, добросовестнее, интенсивнее, плодотворнее будут работать.
Я уверен также , что если вы скажете канцеляриям: мы сделали для вас что могли, надеемся, что и вы, когда у нас будет спешная или очень большая работа, например, работа бухгалтерии при составлении сметы, отдельных отделений канцелярии в экстренных случаях, что и вы нам поможете, временно усилив ваш труд — я уверен, что все служащие с наслаждением откликнутся на ваш призыв.
Заведите такие условия труда и постепенно начнёт улучшаться состав служащих, пойдут такие, которые теперь с ужасом смотрят на канцелярскую службу.
Поверьте, тогда не будет канцелярщина бранным словом.
Канцелярия вся, с её порядками, подчиняется непосредственно секретарю управы, должность которого, по закону, иногда соединяется с должностью городского секретаря в одном лице. Надзор за канцелярией, увольнения и назначения, это — дело головы. Что общий надзор за канцелярией, как и за всем, принадлежит голове — это понятно, но что он назначает и увольняет делопроизводителя в отделении члена управы или исполнительной комиссии, т. е. непосредственно служащих под началом члена управы и председателя комиссии, — это как будто аномалия. Чем будет руководствоваться при назначении делопроизводителя не совсем объективный голова, если он не в ладах с членом управы? Всегда ли пользой дела? Пожалуй, и не всегда!
XIX. Бухгалтерия
Функции городского самоуправления — чисто хозяйственные. Денежная часть в хозяйстве — главное. Не упустить ни копейки дохода, не израсходовать ни одной копейки лишней — вот вся суть финансовой части хозяйства, а когда хозяйство имеет несколько миллионов или сотен тысяч или хоть десятков тысяч годового оборота, понятно, какую роль играет тот орган самоуправления, который ведает эту счётную часть, хотя бы только с точки зрения сохранности кассы, то-есть правильного поступления доходов и правильного расходования денежных сумм.
Правильно поставленная и хорошо ведённая бухгалтерия — залог, если не хорошего хозяйства, то по крайней мере правильного ведения приходо-расходной части и сохранности городских денег. Без хорошей бухгалтерии вечное опасение за сохранность сумм, вечная неуверенность в отсутствии злоупотреблений.
Первая вещь, за которую надо взяться городскому деятелю, это бухгалтерия, и прежде всего необходимость убедиться на высоте ли она положения, т. е. отражает ли она как в зеркале положение городского хозяйства.
Надо, чтобы по каждой отрасли доходов или расходов, в каждый момент можно было видеть, сколько, на что по смете назначено, и какой по этой смете расход произведён со всеми возможными подразделениями по пунктам. Справки бухгалтерии постоянно нужны для членов управы и для всей коллегии, чтобы они могли сознательно, будучи в курсе дела, производить те или иные расходы, не рискуя вызвать нежелательные против сметы перерасходы. Справки эти должны быть взяты прямо из книг, где все отдельные цифры расхода должны постепенно, по мере хода дела, сами укладываться на свои места так, чтобы справку стоило бы только выписать, а не выбирать из другого более длинного ряда цифр, а то и из различных счетов. Такие выборки, хотя и подкреплённые подписями бухгалтера и счетоводов, часто бывают ошибочными и требуют много времени, тогда как они требуются немедленно.
Эта разрозненность счетов и их многочисленность не должны препятствовать их однообразию. Все они должны постоянно сводиться в другие более общие счета и между собою балансировать. Тогда ошибке места не будет. Всякий пропуск сам окажется немедленно и будет исправлен. Все это требует, конечно, больших интеллигентных сил и соответственных расходов, но Боже сохрани их бояться. Нет производительнее расхода. Нет большего источника грехов вольных и невольных, как плохая бухгалтерия!
Теперь я позволю себе поставить вопрос, который я считаю очень важным.
Должна ли бухгалтерия быть сознательной или бессознательной? Должна ли она быть лишь зеркалом, в которое каждый приходи и смотрись, или светочувствительной пластинкой, показывающей изображение не только самому смотрящемуся, но всякому другому? Должна ли она спокойно и не волнуясь переваривать всё, что ей преподносится, или давать тревожный звонок, как только замечает что-нибудь неладное.
Всё сводится к тому, должен ли бухгалтер или счетовод машинально записывать всё, что ему заявляют, или относиться к цифрам критически. В первом случае он явится, как бы ни были сложны формы отчётности, простым конторщиком, писцом; во втором он приобретает гораздо большее значение — он бухгалтер.
Я по многим причинам стою за второе. Прежде всего, как вы хотите, чтобы интеллигентные люди (а неинтеллигентный работник и в чисто формальной бухгалтерии напутает), относились безучастно к тому, что кроется под цифрами, которыми они манипулируют? Это немыслимо, он непременно реагирует, а если вы ему поставите за правило: пиши и не рассуждай, я думаю, он сам убежит.
Обыкновенно против сознательности бухгалтерии восстают члены управы, которые находят, что если бухгалтерии дать право рассуждения о тех цифрах, которые им представляются, то бухгалтер или член управы, заведующий финансовым отделением, получит некоторое право контроля над другими отраслями хозяйства. «Бухгалтер, — говорят такие, — знай, нанизывай свои цифры и не суй носа в ваши дела. Вот ещё что вздумали, каких контролёров захотели!»
Я этого не понимаю: если я в качестве члена управы заведую каким-нибудь городским делом, то милости просим, приходи и контролируй, кто хочет. Не только член управы или бухгалтер, да решительно кто хочет, посмотри и напиши о виденном мне, в управу, в газетах, или еще где, я был бы очень рад, если бы кто дал хороший совет или открыл мне глаза на злоупотребление или упущение. А пустяки, конечно, несколько бы отняли времени, но так бы и остались пустяками.
От интеллигентного бухгалтера пустяков ожидать нельзя, он, вероятно, скажет дело, даже если не придётся с ним согласиться.
Теперь контроль принадлежит голове и ревизионной комиссии (я не говорю про контрольное отделение наподобие банковских, контроль которого — чисто формальный). Не всякому голове есть время всё контролировать, не всякий голова способен контролировать. Ревизионная комиссия самая старательная, самая деятельная физически не может всё видеть, ко всему отнестись критически.
Между тем, всякая цифра проходит через бухгалтерию, притом проходит в разных сочетаниях, в различных группировках, из которых можно вывести то или другое сопоставление. Бухгалтер, только нарочно закрывая глаза, не увидит тех или других упущений. Естественно ему и сказать управе (или голове, или члену, или заведующему отдельной частью — безразлично): смотрите, у вас здесь-то неладно.
Более того: я бы вменил ему это в обязанность, а в случае злоупотребления кого-либо, я бы притянул к ответу и соответствующего счетовода или бухгалтера, потому что трудно допустить, чтобы от них что-либо укрылось.
К сожалению, и тут примешивается известное чувство неравенства, которое во многих сидит, «Я хоть и не очень могу разбираться во всем этом, но я — отец города, голова, или член управы; пускай меня ревизуют другие отцы города гласные ревизионной комиссии, хотя бы они тоже не совсем могли разобраться в делах. Это я понимаю, но какой-то бухгалтер-счетовод... нет, воля ваша... на это я не согласен. Его дело писать, а не рассуждать» .
А я, грешный человек, люблю только рассуждающих!
Из самой задачи бухгалтерии отвечать как на отдельные вопросы о том или другом доходе или расходе, так и на общие вопросы, касающиеся целой серии доходов или расходов в той или иной группировке, вытекает и ея организация.
Бухгалтерия должна обнимать все отрасли хозяйства и вместе с тем быть объединённой. Счетовод должен быть в каждом отдельном учреждении, в каждой отдельной части, но зависеть он должен от главной бухгалтерии, вести счётную свою часть по формам главной бухгалтерии. Бухгалтерия должна быть везде, но должна быть одна.
Вот организация, очень высоко ставящая как лицо главного бухгалтера, так и всю эту отрасль управления. Закон о ней ничего особенного не говорит, причём на неё распространяется общее правило полного подчинения канцелярии голове.
Так оно и практикуется, причём лишь лицо главного бухгалтера назначается кое-где не единолично головой, а всей управой.
Само собою разумеется, что назначения должны производиться не иначе, как по представлениям главного бухгалтера, отвечающего за всё дело. Не мешало бы тоже, если бы назначение и остальных счетоводов было предоставлено не голове, а всей управской коллегии.
Поставить бухгалтерию на должную высоту дело совсем не лёгкое: нужно, прежде всего, установить надлежащие формы применительно к весьма разнообразным и друг на друга непохожим в различных местах отраслям хозяйств; а затем форм мало, надо ещё добыть достаточный контингент интеллигентных работников, знакомых более или менее основательно с бухгалтерией. И то и другое далеко не так легко, как кажется.
Организовать такое сложное дело может далеко не всякий, даже знающий бухгалтер. Нужны не только знание, не только интеллигентность — нужна несколько творческая способность. Мне приходилось слышать от людей из железнодорожного мира, как трудно разыскать такого бухгалтера-организатора, и как они высоко ценятся.
Не менее мудрёна вторая задача: подобрать подходящих счетоводов. Правда, все города пестрят вывесками: « бухгалтерские курсы » , редкое прошение не заключает в себе упоминания, что проситель и теоретически и практически знаком с бухгалтерией; но что это за бухгалтерия, легко себе составить понятие, познакомившись с ней на деле. По-видимому, большинство этих курсов (да и курсы-то всё больше шестимесячные) не дают ничего, кроме возможности называться бухгалтером.
Часто ни достаточного развития вы не найдёте, ни специальных знаний.
Надо при этом заметить, что бухгалтера для городской управы найти труднее, чем в банк. В банке счетовод, которому поручена какая-нибудь книга, может вести её механически, так мало разнообразны записи, которые он должен делать. Городские расходы разнообразны и часто надо подумать, как и куда что отнести. Поэтому, главного, как думает большинство, качества счетовода — аккуратности мало; надо ещё соответствующее общее развитие.
Независимо от качества расхода, если можно так назвать, его производительности и уместности, есть ещё сумма расхода.
Сумма эта всегда точно определена сметой и передержки весьма нежелательны. Поэтому на столе всякого счетовода всегда должна лежать смета. Ясность её и удобство её составления и пользования ею играют очень важную роль. Форма, по которой она составляется, утверждена министерством. К сожалению, она далеко не удовлетворительна и не позволяет группировать различные отрасли хозяйства, как было бы желательно. Составление удобной формы, удовлетворяющей потребности различных городов, является насущной потребностью.
Однообразие же нужно для министерства, вероятно, в целях статистических, для лёгкости подведения итогов по различным параграфам и статьям сметы.